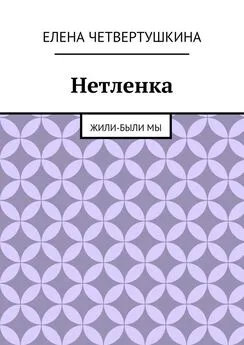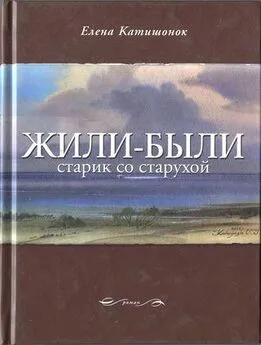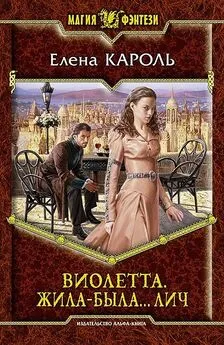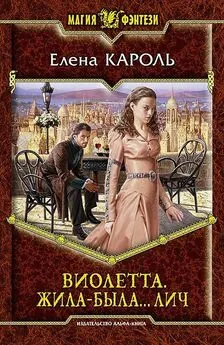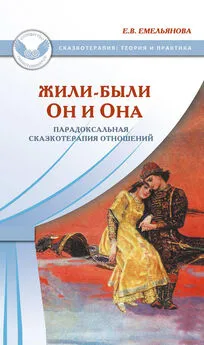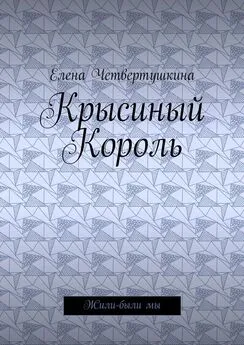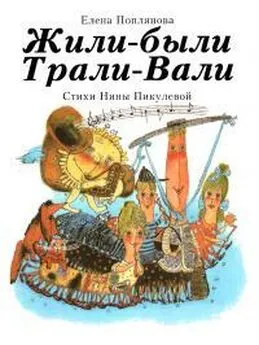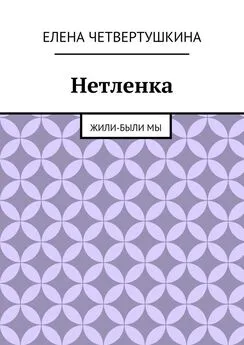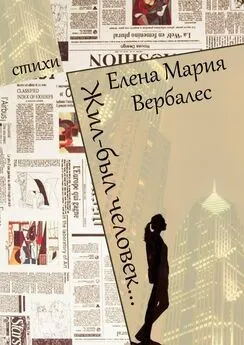Елена Четвертушкина - Нетленка. Жили-были мы
- Название:Нетленка. Жили-были мы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785447477028
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Четвертушкина - Нетленка. Жили-были мы краткое содержание
Нетленка. Жили-были мы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К сожалению, не только его.
…Республика Лаванти историю имеет бурную. Лежит она на северо-восточном побережье Сарацинского моря с выходами в океан Мрака, и славится самыми изысканными в мире винами, оливковым маслом, шестизвездочными курортами и индифферентной к любым внешним воздействиям внешней политикой. Особенно непробиваемой она делалась при силовых поползновениях.
Впрочем, экспорт оливок, цитрусовых, мохера тонкорунных лавантийских коз, а также туризм и международная банковская деятельность на самом деле являются всего лишь малой толикой валового национального профита. Эта страна, которой пришлось выживать в жестоком и несправедливом мире, быстро нашла для себя экологическую нишу. Она создала самую лучшую в мире внешнюю разведку – легендарную Префензиву – и теперь считалась самым надежным посредником во всех сделках пограничной законности: промышленный шпионаж, политический шантаж, отмывание грязных денег, лоббирование чьих-то интересов, торговля сферами влияния в колониях… Лаванти знала всё обо всех, и охотно делились знаниями с тем, кто мог и хотел за это платить.
С самых первых упоминаний в летописях Лавантийское побережье Зодеатского континента считалось гиблым: то была просто окраина Большой Пустыни, с зыбучими песками кое-где, а кое-где – с солончаками и каменистыми пустошами, на которых расти могла разве что совсем уж отпетая верблюжья колючка. Какие-то глухие поселения там имелись, ведь это были восточные задворки европ – Артемисы, Сарагоза, Сегеша и Стефалии, своего рода черный ход на континент, настежь открытый в Лавантское море. Неудивительно, что туда периодически наведывались то хаматские торговцы рабами, то сейламские пираты, то ещё какие-то разбойники с большой морской дороги… А потом туда начались наезды «Христовой» Армады, ещё во времена её принадлежности Мидо-Эйго. Эти чинили суда, набирали воды и провианта для дальнейших походов; лениво разоряли хозяйства, лениво требовали то какой-то дани, то каких-то рабов… В конце концов люди ушли оттуда совсем.
И в некий исторический момент государства, имевшие открытые к побережью границы, сговорились раз и навсегда покончить с восточной угрозой. Прибрежная пустыня именовалась Большой и действительно имела большую протяженность вдоль береговой линии, но вглубь была вполне проходима, если поднапрячься. Времена стояли средневековые, жадные, поднапрячься мог кто угодно, и в любой самый неподходящий момент. Чтобы больше не вздрагивать спросонья от громкого стука в городские ворота, и не усугублять бессонницу размышлениями о войне у стен собственных столиц, сопредельные государства решили скооперироваться. Они проспорили всего-то лет 5, помянув друг другу все старые счеты и предъявив все накопившиеся – от царя Сапрапула, – претензии; отведя душу криком, всё-таки договорились предпринять небывалую акцию: свезти в Гиблые земли преступников, осужденных на смерть. Бунтовщики и головорезы, фальшивомонетчики, грабители и чернокнижники, – вот уж их точно никто не собирался спрашивать, согласны или не согласны они жить в горьких от соли песках и искать пропитание на исковерканных океаном мертвых прибрежных скалах. Их просто погрузили в трюмы, вывезли и выгрузили – как скот, не имеющий прав на выбор не только жизни, но и смерти. Исходя из человеческих законов, они уже навыбирались, наошибались, начудили и намозолили всем глаза, так что теперь вынуждены были нести ответственность за содеянное.
Новой провинции не назначили ни алькальда, ни суда, – ненормальных не нашлось лезть в этот ад. Только приехал по зову сердца неистовый капеллан разгромленной на просторах Эолы армии безвестного герцога.
…Как обычно, началось с воровства средств, отпущенных на мероприятие, и было много откровенного крысятничества, подлостей и гадостей, и как следствие – голода и смертей; плодотворная идея грозила помереть на корню, не успев принести дивидендов. Страны-соучастницы, удостоверившись, что почти все средства украдены, а новых взять неоткуда, начали искать виноватых, обвинили друг друга во всех смертных грехах, задавили горами взаимных обид… Но всё же позволили горам этим породить мышь: на жалкие остатки недоуворованных денег закупили и завезли в Гиблый край два корабля: один привез шанцевый инструмент, несколько десятков мешков семян и сотню тощих, как мотыги, коз, а второй – женщин-заключенных.
Высаженные до этого на голый песок каторжане, отчаянные и озлобленные, ни одной секунды своей пропащей жизни не сомневались, что никто и ничего для них в мире даром делать не станет, и поначалу просто принялись вымирать, стиснув зубы. Но тут последовали запоздалые благодеяния чуток охолонувшихся родин, и смертники вспомнили, что спасение утопающих есть дело самих утопающих . Шанцевый инструмент, презрительно посмеиваясь, всё же разобрали; полудохлые козы, как это ни странно, оказались дойными; женщины, также прошедшие огонь, воду и медные трубы, дали неожиданно резкий отпор раскатавшим губу любителям дармовой любви, засучили рукава с остатками дешевеньких (и не очень) кружев, и занялись хозяйством.
И тут на мертвой земле отчего-то начались чудеса.
Первое выстроенное собственными, непривычными к мирному труду руками здание, была церковь – Храм Пречистой Девы Марии. Конечно, из плавника, другого дерева тут не росло. Кстати, церковь эта, тщательно отреставрированная и бережно хранимая, стоит по сю пору… На Христа новопоселенцы не решались уповать, но Спорученица Грешных, Всех Погибших Радосте, жалостливая Царица Небесная, показалась единственной надеждой сбившихся с пути; под Её Покровом, судя по всему, и начало новую, суровую и тяжкую жизнь будущее государство.
Отнимать друг у друга было нечего, пришлось сажать маис и разводить скот. Наладились рыбачить на плотах из того же плавника; а потом кто-то вдруг глину нашел в солончаковом распадке, и припомнил отца, как тот отжигал в уличной печи горшки да макитры. Помял в пальцах глину, понюхал, лизнул… А хорошая глина-то, отличная просто!
Дожили до натурального обмена; жилось нелегко. То неурожай, то мор, то усобица какая – первое время то и дело пытались решать проблемы по старинке, то есть кулаками; но как-то ясно было, что ничего это здесь не решает. От отчаяния, от безысходности всё чаще обращались к капеллану – может, что присоветует… И как-то всё-таки жили. Минуло время, старый капеллан умер, успев обучить десятку молитв, Правилу Евхаристии и благоговению к еле живой книжке Евангелий четырех болезненных юношей, которые сроду ни в чем виновны не были, так как родились уже на каторге.
…А народ упрямо нёс и нёс в храм из плавника крестить детей, и отпевать усопших, и желал, непременно и обязательно – сказать кому, не поверят! – заключить законный брак перед Царскими Вратами, перед Владычицей, чин по чину.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: