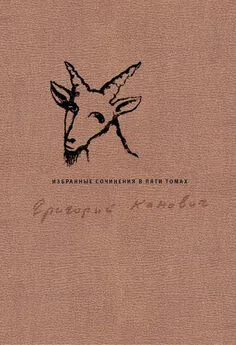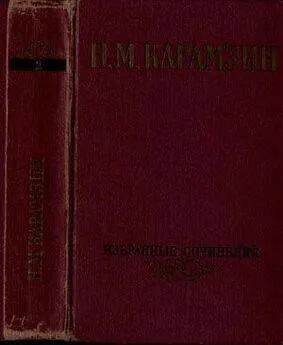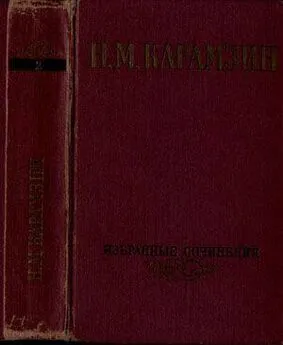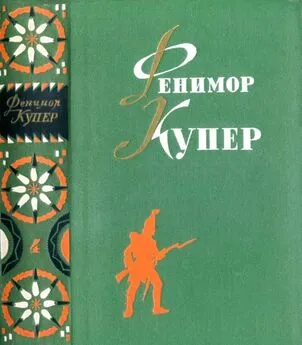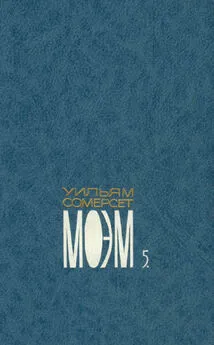Григорий Канович - Избранные сочинения в пяти томах. Том 3
- Название:Избранные сочинения в пяти томах. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Tyto alba
- Год:2014
- Город:Вильнюс
- ISBN:978-9986-16-993-2, 978-9986-16-900-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Канович - Избранные сочинения в пяти томах. Том 3 краткое содержание
Избранные сочинения в пяти томах. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Душу нельзя увидеть глазами, – говорил он. – Потому что глаз алчен и завистлив.
Лея все время ревновала его к чему-то невидимому, не доступному глазу, тонула в его молчании, как в омуте, и потом, в постели, обвивала своими тростниковыми руками его голову, забиралась на него, как на плот, и до утра, опьянев от ласки и неги, в беспамятстве плыла по простыне, как по белому, быстроходному облаку, шептала что-то стыдное, нежное и называла: «Мой камень, мой добрый камень…», а он только улыбался в темноте, и грубое его лицо озарялось улыбкой, как хлев факелом из подожженной пакли.
Он был счастлив с Леей. Недаром она родила ему столько детей, сколько Гниде и Двойре вместе. Двое умерли при родах, а погодки Эзра и Церта уцелели. Двадцать лет прожил Эфраим с Леей, за это время она даже состариться не успела. Другие женщины в местечке старели, седели, покрывались морщинами, а она, его Лея, выглядела как невеста. Эфраим берег ее от сглаза, от шныряющих по местечку странников, отпугивал их своим суровым молчанием, отгонял, как слепней, мог в случае нужды взять самого прилипчивого за шиворот и выставить прочь. Молодость Леи льстила ему, и он просил у неба только одного, чтобы Лея пережила его, чтобы не сошла до времени в могилу, как и две его другие жены – Гинде и Двойре.
Небеса, казалось, не отказали Лее в своей милости, услышали Эфраимову просьбу. Лея цвела, как яблоня, роняя на Эфраима свой цвет и орошая его своей молодостью, как весенний паводок дернину. Может, потому, а может, по другой причине Эфраим так растерялся, когда Лея вдруг слегла. Все началось с легкого кашля, с невинной простуды (дело было под Рождество), не предвещавшей ничего дурного. Полежит денек-другой в постели, попьет липового отвара или молока с медом, попарит в корыте ноги, и кашель как рукой снимет. Но Лея кашляла пуще прежнего. Даже за околицей, у молельни, было слышно, как она надрывается, бедняга. Никакой отвар, никакое молоко – ни парное, ни кипяченое – не помогли.
Эфраим надел кожух и по льду отправился на другой берег Немана, в крохотный городок, где жил старый фельдшер по фамилии Браве, изредка лечивший и мишкинских евреев.
Эфраим отыскал его дом, объяснил Браве свою просьбу и стал ждать ответа.
Фельдшер Браве крутился возле пахучей, увешанной чистенькими тряпичными гномиками елки и, похоже, не обращал на просителя никакого внимания. Он переставлял своих гномов, поправлял на них красненькие колпачки с таким тщанием, словно от этого зависело все: и жизнь Леи, и продолжительность зимы, и благополучие его дома.
– Господин доктор… Моей жене… плохо… нихт гут, – произнес Эфраим на ломаном немецком, скрестив свой родной язык с языком Браве, как яблоко с грушей.
– Нихт гут.
Всем своим видом Эфраим давал Браве понять, что заплатит – у него, Эфраима, есть марки, да, да, есть, – что он до гроба не забудет господина доктора, только пусть поскорей надевает шубу, пусть оставит в покое своих гномов – с ними ничего не случится, а вот с Леей…
– Майн фрау… руфт мен… Лея… (мою жену зовут Лея), – на яблочно-грушевом наречии сказал Эфраим.
Но Браве, видно, не было никакого дела до Леи, до марок, до талеров, до рублей, до назойливого гостя. Он готовился к Рождеству, и ничто другое его не занимало.
Эфраим затравленно оглянулся. Взгляд его вдруг зацепился за лисью шубу, висевшую на оленьих рогах в прихожей. В два скачка Эфраим очутился у оленя, снял с его рогов шубу и, не дав Браве опомниться, закутал его в нее.
– О, майн готт! – воскликнул Браве. Он не понимал, что этот огромный, этот лохматый юде собирается с ним делать – убивать или грабить?
Эфраим не выпускал его из своих объятий. Браве хрипел, пытаясь освободиться от собственной шубы и вернуться к гномикам в красных колпачках и желтых сапожках.
Эфраим связал тонконогого, поджарого фельдшера сыромятным ремнем и, пользуясь ранними зимними сумерками, понес Браве из теплого рождественского дома к замерзшей реке, по которой проходила русско-германская граница.
Эфраим нес его задами, огородами, чтобы никому не попадаться на глаза.
Пересек Неман.
– Энтшульдиген зи битте… – шептал он, как заклинание.
Пленник ерзал, закутанный в злополучную шубу, клял насильников-юден, клял близкое соседство с дикой Россией, клял стужу (Эфраим в спешке не заметил, что господин Браве не в ботинках, а в теплых ярких шлепанцах, которые, казалось, сняли с елки), сучил озябшими ногами и негромко завывал. А может, это завывал не он, а ветер, метавшийся между двумя империями.
Когда Эфраим принес связанного фельдшера к себе домой, тот наотрез отказался осматривать Лею.
– Найн! Найн! – мотал он головой, как гном на рождественской елке.
Он принялся снова, в том же порядке, клясть насильников-юден, Россию, стужу, тер ногу об ногу, силясь вернуть им прежнее, германское, тепло.
Лея испуганно смотрела на мужа, на незнакомца, одинаково жалея их, а молчаливый Эфраим кивал то на больную жену, то на себя и приговаривал:
– Энтшульдиген зи битте… ради бога… помогите ей… Я отнесу вас обратно… цурюк… ферштейст? Цурюк… И ботинки дам – шуэ… и носки… Понимаете, носки… по-нашему шкарпеткес, а по-вашему не знаю…
– Умрет твоя жена… дайн фрау… штербен… Умрет… – выдохнул перепуганный, мстительный фельдшер, и Эфраим весь сжался, сплющился, как будто у него вынули кишки. Только теперь он заметил, что у Браве – ни трубки, ни лекарства, зря он тащил его столько на себе, только подверг себя опасности, ведь за такое похищение и взгреть могут, фельдшер пожалуется своему, германскому, начальству, те передадут русским властям, явится урядник, спустит с тебя портки и отсчитает пятьдесят горяченьких. Хорошо еще, если плетьми отделаешься. А вдруг – чтобы улестить германца – тебя сперва в россиенский острог упекут, а потом в Сибирь погонят.
Но что плети, что Сибирь по сравнению с этими ржавыми словами:
– Умрет дайн фрау… умрет…
Пусть секут плетьми, пусть ссылают на край света, но пусть Лея живет. Слышите, господин Браве, пусть Лея живет! Пусть по-прежнему цветет, как яблоня, роняя свой цвет на него, на погодков Эзру и Церту, орошая их своей любовью, как паводок дернину. Слышишь, Бог! Пусть живет! Если костлявая изголодалась, если ей нечем набить свое брюхо, возьми меня! Только не трогай Лею!
Эфраиму нестерпимо хотелось спросить у Браве, означают ли его слова обыкновенное проклятье или приговор. Он на минутку оставил фельдшера наедине с Леей – может, ей удастся расшевелить его! – а сам потопал в прихожую, принес оттуда казанок с остывшей картошкой, нарезал хлеб, достал соль, подвинул ее фельдшеру. Браве опасливо-брезгливо выловил картофелину, посыпал ее солью и принялся по-стариковски, с чавканьем и чмоканьем, есть, боясь вконец разозлить Эфраима.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: