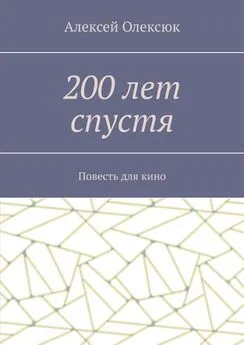Порфирий Лавров - SOLNЦЕЛЮБ. Шесть повестей для кино
- Название:SOLNЦЕЛЮБ. Шесть повестей для кино
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Стрельбицький
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Порфирий Лавров - SOLNЦЕЛЮБ. Шесть повестей для кино краткое содержание
SOLNЦЕЛЮБ. Шесть повестей для кино - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При чем тут аквариумы?!
Белый шар раздумывал, куда бы податься?
Дмитрий Павлович вдруг ощутил на лице движение воздуха и понял, что это ветер и что этот ветерок дует как раз в их сторону, как бы подсказывая шарику направление, и увидел, как эта белая тварь вроде бы даже его слушается и трогается с места!
Тут надо сознаться, что Дмитрий Павлович смалодушничал: он страсть как захотел, чтобы шар полетел в какую угодно сторону, только не на него.
А через секунду уже «оченно» в этом раскаивался!
Он раскаивался (это не совсем верное слово – «раскаивался», слишком мягкое), – Дмитрий Павлович раскаивался, потому что шар, будто вняв его горячей просьбе, изменил курс и рванул прямиком к Изделию, сокрушая все на своем пути с громким треском, сверканием и дымом – как бы для добавочного устрашения.
Через неделю дорожку эту проследят по искореженной боевой технике – и технику эту в срочном порядке заменят новой. Но кто проследит путь, оставленный в душе? Тем более что заменить ее нечем! Но это – через неделю. А тогда…
Тогда мелькнула мысль (или, наоборот, застряла) – о громоотводах: какой идиот их тут понатыкал притягивать со всей округи молнии?! И вместе с ней – почти восторженное: п…ц! В смысле «Всё! Приплыли! Хана! Конец! Амба! Крышка! Труба! Песенка спета! Полный абзац! Капут! Каюк! Кранты! Кирдык!» – но ёмче и по-матерному. Авторы настаивают, что годного для обозначения такого чувства прилично-литературного выражения не существует.
А напоследок – отчаянный крик души:
– Господи! Обойдется – на Лейле женюсь! Пронеси-помоги!
Около самого Изделия тоже работали люди.
Шаровая молния замерла перед краем брезента, которым был закрыт лубянско-рижский детский рынок, повисела в раздумье – и нырнула под полог! Посветила оттуда, стала подниматься кверху – и сгинула! Может, исчезла совсем, а может, только затаилась, перевалив через край опалубки.
Долго никто не шевелился: все ждали, ждали, ждали…
А, собственно, чего?
В этом-то и вся закавыка!
Потому что если жахнет – то «п…ц!» в том самом смысле, а если нет – то и ждать нечего, делай свое дело.
Но никто не делал.
Все стояли неподвижно, как и Дмитрий Павлович, и думали похожие мысли, – вполне объяснимое явление, с чисто психологической точки зрения. Но это самое, объяснимое, было общим необъяснимым для всех.
Потом немножко отпустило. Начались ахи и охи, смех и хохот – все, как полагается в таких случаях. А когда вдруг выяснилось, что ни одна машина не может завестись, то восприняли это известие даже с радостью и пошли-потопали к бараку пешком, вместе, под ударившим с новой силой (каким-то даже тропическим) ливнем, десять километров, мокрые и грязные снаружи и высушенные и выжженные изнутри.
Этой же ночью Лейле-буфетчице на Берегу и Дмитрию Павловичу на Площадке приснился один и тот же сон, но они никогда не расскажут его друг другу. Будто бы точильщик вертит свое колесо под громовые возгласы: «Ножницы править, ножи точить!» И ростом он – головой за облаками, из бороды дождь висит, а из-под его колеса молнии вылетают.
Стачивает это колесо зазубрины и ржавчину с лезвия, и оба они – Митрич и Лейла – радуются, потому что это зазубрины памяти и ржа забвения, радуются они наступающему покою: не надо будет ничего забывать, как и вспоминать ничего не придется. Блестит ножик в руках точильщика. Только замечают они вдруг, что и лезвие тоньшает, безжалостно оттачиваясь, и понимают с ужасом, что ножик этот – их время, и кончится жизнь, как только изойдет под беспощадным колесом весь металл!
Остановись, точильщик, не спеши! Что означает работа твоя? Кому нужны эти сверкающие чистые огрызки?
Но ответа не последовало.
Такой был сон.
А потом кое-как пошла – и прошла эта муторная для Дмитрия Павловича неделя.
Что дождь перестал – и окончательно – Женька поняла, проснувшись вдруг среди ночи.
Через распахнутое окно ясно и резко доносился до Женькиного слуха непрекращающийся животный гвалт из вивария. Собаки, коровы, овцы, птицы – все! – торопились излить душу в располагающей к исповеди тишине. Раньше они как будто такого галдежа не устраивали. Или так казалось по привычке, а теперь, за время дождя, Женька отвыкла – вот и обратила внимание, даже проснулась? Ведь и так может быть, правда же?
И вдруг ей сделалось тревожно – от этого небывалого волнения животных, а еще больше оттого, что она только что хотела уговорить себя не волноваться. Именно от этой своей слабости ей и стало не по себе.
Она села в постели.
Мявкнул котенок, устроившийся спать в Женькиных ногах.
Она подхватила его на руки и стала гладить, успокаивая его и пытаясь успокоиться сама. Но котенку не понравились такие нежности, и он куснул ее, царапнул и спрыгнул на пол.
Он вообще оказался каким-то диковатым, этот котенок: грыз руки, кидался в ноги, по-звериному припадал к полу, шипел, хищно скалился, сверкая черными глазенками. Лейла заметила на днях:
– Он у тебя, чем больше жрет, тем больше звереет.
А Женька обиделась на подружку и сказала:
– Ну давай его совсем не кормить – может, человеком станет?
Тогда и Лейла обиделась, приняв слова Женьки на свой счет, потому что любила вкусно поесть, имела такую возможность, и по Женькиному-то выходило, что была не вполне человек. Глупо, конечно.
Нет, не зря волнуются животные!
Женька продолжала сидеть в постели и прислушиваться.
Чуют! Что-то нехорошее для них должно произойти в скором будущем. Или не только для них? Вот и у Женьки тоже – томление и беспокойство без видимого повода или объяснимой причины. Ну, проснулась среди ночи. Галдеж в виварии. Ну, дождь кончился…
Стоп!
Кончился дождь.
Вот оно – главное!
ЗНАК!
Знамение грядущих перемен и бед.
Но почему?
Да и какие еще беды могут произойти в ее-то разудалом положении? И что это за перемены, которых следует опасаться?
– Господи! Ни чего-то я не знаю, глупая женщина. Только чувствую. И объяснить не могу.
Утро разгорелось – и вспыхнуло над мокрой, застиранной степью.
Разведрило, и в два дня все лужи, эти скопища пустых часов и дней, превратились в россыпи бурых черепков; мелкие, как чешуя, они усеяли асфальтированные углы Берега, а на открытых степных пространствах разбросались битой посудой и черепицей. Очень скоро белое, равнодушное ко всем солнце истоньшило, разломило и рассыпало в прах эти бесполезные памятки былого, а столбы пыли снова обозначили движение автомобилей по неумолимо раскалявшейся жаровне.
Женька надела свой длинный черный халат и белый марлевый колпак с прорезями для глаз – как сама она теперь называла, маскарадный костюм «аллегория смерти» – и принялась каждое утро поливать из шланга и разметать метлой мусорную чепуху, шокируя своим видом вновь прибывающих командированных. А потом собирала чумазую посуду, отмывала каждую бутылку теплой водой с мылом, споласкивала и вытирала насухо, и бутылки становились одинаково чистыми, как беспризорные дети, нашедшие призор. А дальше уже она ставила их в две сумки, чтобы удобнее было нести, и шла к приемному пункту, где ее хорошо знали и принимали без очереди.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



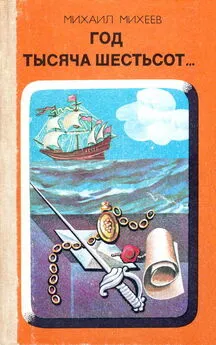

![Илья Эренбург - Шесть повестей о легких концах [старая орфография]](/books/1093982/ilya-erenburg-shest-povestej-o-legkih-koncah-star.webp)