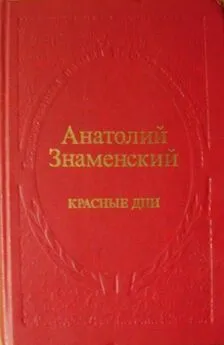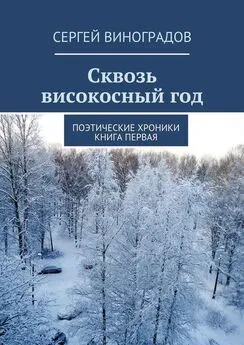Анатолий Сорокин - Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга первая
- Название:Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448327193
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Сорокин - Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга первая краткое содержание
Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга первая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Все в том же, скотину нечем кормить, – пожаловался Хомутов. – Приволок вечор с фермы две вязанки утайкой, дак ить не продержишься долго. Да и совестно мне воровать, не по чести вроде бы, Андриан.
– Ты свою не прокормишь, одну, а я? У меня хватит на всех? – буркнул в ответ не менее хмуро Андриан Изотович, в то же время уже начиная прикидывать, как бы в самом деле помочь Хомутову.
– С тебя и спрос за всех… Даже за наших.
В затишье подтаивало. Шлепались редкие капли. Влажное, согретое солнышком старое дерево стрех курилось парком.
Хомутов насупился, пробурчал:
– Нету выхода у меня, Изотыч, провалялся в собачьих опоясках сенокосную страду, а там – жатва, вплоть до снегов, че же делать, советуй… Стар я вязанками с фермы таскать, хоть одонков бы выписал.
Андриану еще более неловко. Не только у Хомутова нехватка в кормах для личного скота, полдеревни в похожем положении – за это спроса ведь нет. А какую помощь он может оказать, если и на ферме почти вдвое урезали норму?.. Вот как оно так, из какого такого расчета, который ни разу, сколь Андриан в управляющих, полностью не оправдался? Ни разу ведь! Лишь хуже и хуже из года в год.
И не будет выполнен, потому что с потолка, из желания пустить пыль в глаза, а не из мужицкого расчета.
Дотронувшись до Хомутова, извиняясь за прежнюю резкость, Андриан Изотович пообещал:
– Придумаем на маленько, не отчаивайся.
Хомутов по достоинству оценил эту его пока словесную щедрость, обрадовался:
– Ну и ладно, а то я вконец духом пал. И к тебе приставать неохота, и деваться некуда. Баба ревет громче коровы, а кого жальче, не пойму.
– Корову, само собой, кого бы мужику жалеть!
Одна половина ворот у Талышевых была приотворена. Андриан Изотович ступил на чистый метеный двор, подошел к саням, на которых рукастый, широкогрудый Талышев увязывал поклажу. Не зная, о чем говорить и о чем спрашивать, когда яснее ясного, сказал с ехидцей:
– Уезжает, а блеск навел, смотрите, какой я хозяин!
Веревка в руках Талышева невольно ослабла, узел получился не там, где нужно. Талышев дернул в сердцах короткий конец:
– А, сатана, лезет он под руку. Без тебя…
От крика его лошаденка испуганно дернулась, пошевелив сани, с воза что-то упало мягко. Митрич подскочил к лошаденке, схватился за узду:
– Стой! Стой, шалава!
– Да ты не психуй, – сказал Андриан Изотович, пожалев бывшего друга детства. – Если неприятно, я уйду. Мимо шел, не мог не зайти. Не сдюжил и не сдюжил, так и запишем.
Он хотел произнести эту последнюю фразу повеселее, лихо, но получилось грустно и даже укористо.
– За ково тут держаться, – овладев было собой, произнес Талышев, стараясь не встречаться с управляющим взглядом, – по-всему, отдержалися, Андриан. – Но конь спятился, сани опять скрипнули, и Митрич, продолжая стискивать узду, врезал коняке по губам, заорал бешено: – А-аа, мать ее, распустила слюни! Крутится она тут, постоять смирно не может!
Лошадь вовсе не крутилась и шибко не своеволила. Так, мотнула в охотке головой, задела чуток Митрича влажной мордой.
– Скотина снесет, бей, – сказал Андриан Изотович, меньше всего стараясь причинить Митричу новую обиду, и снова получилось как-то не так, Талышев снова необъяснимо взъярился, поддернул кобылку недоуздком.
– И зашибу! Зашибу, в бога и в душу! – говорил сипло, словно надорвал голос.
Разговора не получалось и не могло получиться. Ничего сейчас меж ними, кроме ссоры, не могло получиться.
– Ну, счастливо, Митрич, – вяло произнес управляющий и помог Талышеву растащить ворота пошире. – На одноконке тебе за седне не управиться… На трактор сядешь? Дают трактор.
– Предлагали.
– Ну?
– Не хочу больше на тракторе, на движок пойду воду качать.
– Что так? Ты тракторист врожденный.
– Не канителился бы я на чужих полях. – Митрич был злой и красный. – Чужое, Андриан. Кабы хоть околочек знакомый… Не поминай ты нас худым словом – одного боюсь. Я бы, конешно… но сам видишь, сколь их у меня. Все школьники.
Шныряла вокруг ребятня – детей у Талышева было пятеро – стремясь уехать всем гамузом и непременно первым рейсом, выискивала место на возу и нисколь не печалилась происходящим отъездом. Вывалились из двери на крашенную дощатую приступочку жена с обмотанной тепло матерью-старухой. Старуха обернулась на хатенку под испревшей соломенной крышей, уже почти полностью заколоченную, перекрестила себя, обмахнула святым знамением избу, помнящую крики многих и многих рождавшихся в ней, прошамкав что-то слезливое, закрылась платочком. Приложив к ставням крайнего окна доску, Митрич с маху вогнал в нее молотком гвоздь. Потом приложил другую, накрест, и тоже прибил со всем озлоблением. Потрогал зачем-то заколоченные ставни.
– Вот как оно в жизни, Андриан, было хорошее или плохое гнездо и больше нет… Кто бы подумал! Жили или не жили!
Испорченным звуком отозвалась Андрианова душа. Переждав очередное непрошенное гудение, сказал как можно бодрее:
– Может, к лучшему, не бери сильно в голову… Оно – кому как; счастливой дороги, Митрич.
– Дорога не жисть, дорог вокруг много, да скоро кончаются.
– Начнешь новую, место хорошее.
– А я не место ищу, Андриан, оно у меня было, я сердце свое рву на части. Корешок из души навсегда вырываю.
– Свое ли, интересно бы знать? – не сумев сдержаться, сорвался на крик Андриан Изотович. – Свое ли только?
Он никогда не задумывался, можно ли обойтись без этих вот криков и размахиваний руками, как он сейчас размахивал ими перед ужавшимся Митричем, что были его навсегда устоявшиеся и едва ли не врожденные привычки. Когда душа просила радости, он бурно и неподдельно радовался, когда она гневалась, гневались, нисколь не скрывая, его разум, лицо, руки; человек ведь действительно в своем природном и первобытном естестве похож на обезьяну, и другим делать его природа как-то не очень спешит.
Зная эту особенность – срываться на крик и криком отстаивать свои убеждения, вколачивать в головы собеседников, как вгоняют в дерево непослушный гвоздь, он никогда не считал ее слабостью или какой-то распущенностью, как утверждают некоторые, корча из себя интеллигенцию, а считал надежным приемом, проверенным практикой, чтобы заставить выслушать себя и стать понятным. Когда-то, должно быть, прием срабатывал неплохо – если кто-то и недопонимал чего-то, по крайней мере, вовремя включал тормоза, видя его разгневанным, и на рога упрямо не лез – но теперь стал обычной нервной распущенностью и лишь чаще пугал окружающих.
Впрочем, подобным образом меняются все люди, не желая ни признаваться, ни замечать за собой подобной мимикрии чувств и поступков и, разумеется, не считая распущенностью. Привычка и неизбежность способов человеческого сосуществования, позволяющие кому-то нахальненько и беспардонно властвовать и помыкать, а другим приспосабливаться и подстраиваться в поиске теплого места и доступного куска хлеба. Человечество не настолько глупо, чтобы высмеивать самое себя, и открыто признавать неизбежную человеческую паранойю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: