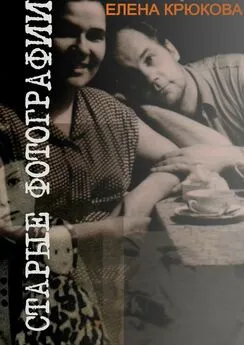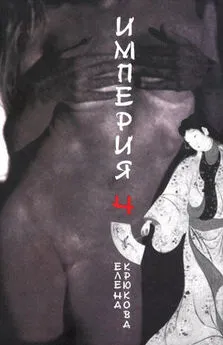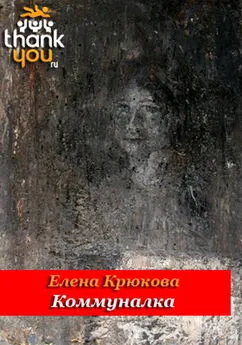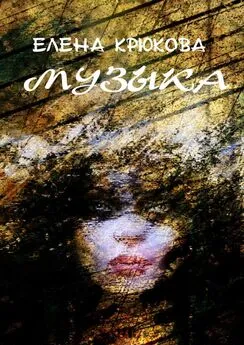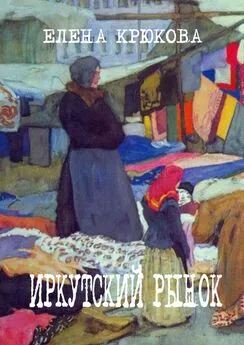Елена Крюкова - Старые фотографии
- Название:Старые фотографии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448331138
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Крюкова - Старые фотографии краткое содержание
Старые фотографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Братья не знали про морское училище.
После Зойки еще брат у него народился. Виктором назвали.
Евдокия любезно пригласила в избу соседа Трунова. Михайло Трунов явился, медвежьими культяпыми ногами тяжко переступая, за стол уселся, ладони потирал, носом водил – угощенья ждал. Евдокия живо выметала на стол из буфета четверть, вареники с вишнями, хлеб порезала тоненько, как в богатых семьях. Самовар булькал.
– Ты этто, Михайло, знашь, иде на моряков-то учат?
Руки Дуни рушник мяли, перебирали, белый как снег, вышитый красными петухами.
– Знаю, ― кивнул Михайло, выпил горилки из граненого стакана величиной с гусиное яйцо, крякнул, и от громкого кряка в буфете надсадно хрустнуло стекло. ― У Ленинхраду.
― Проснитесь! Да говорят вам, просыпайтесь!
Разлепил глаза. Рукой махнул, как на муху: улетай, уйди, дай поспать.
Цепкие руки хватали за воротник рубахи, за плечи, тянули к себе, приподнимали с такой теплой и уже своей скамейки. Ворот рубахи хрустул, шов расползался. Колька затряс головой, сел на скамейке.
– Ну что вы…
Осекся. Странный седенький старикашка стоял перед ним, маленький гриб-боровик. Тощие запястья жалобно торчали из грязных обшлагов, белых когда-то – так давно белых, что былая белизна в паровозную сажу обратилась. Старикашка обрадовался, что Колька пробудился; захлопал в ладоши, как в театре.
Колька встряхнул пиджак за шкирку, будто вороватого кота; накинул на плечи. Листва шумела. Хотелось пить и есть.
– Ну вот так-то, ― старичок перевел дух и сел на скамью рядом с Колькой. ― Вижу, не беспризорник.
– А почему видите? ― созорничал Колька. ― На лбу у меня написано?
– Вижу, ― тихая улыбка человека забытой лаской мазнула по настороженному лицу парня. ― Я все вижу. Насквозь и даже глубже. Издалека приехали?
«Старше меня на сто лет, а на „вы“ меня».
– С Донбасса.
– Ага. С Украины. Выговор у вас не хохлацкий. Чистый. ― Старик вынул из кармана замызганного пиджачишки старинное пенсне и стал дотошно, сначала одно стеклышко, затем другое, долго, нудно протирать лохматой тряпкой.
«Это ж платок носовой. Раньше был. Давно».
В блестком пенсне старик стал совсем франтом.
Колька чуть не засмеялся, когда старикашка изящно откинул руку назад, за спину, и наклонился вперед: это он вежливо кланялся так Кольке.
– Позвольте представиться. Ипполит Сергеич Кузьмин. А вас как величать?
Колька чуть было не выпалил: «Колька».
Вовремя одумался.
– Крюков, Николай.
– Дитя мое! ― Старик назидательно поднял палец. ― Никогда не говорите сначала фамилию, потом имя. Это моветон. Представляться надо так: имя и фамилия, или – имя и отчество. Или: имя, отчество, фамилия. И только так! Попробуйте!
– Николай… Иваныч Крюков, ― сказал Колька, и на глаза у него навернулись слезы.
Отца вспомнил.
И мать.
«Увижу ли когда? Укатил… на всю жизнь, что ли?..»
– О да! ― Старик довольно разулыбался. ― И на конвертах, в адресе, тоже так надписывайте: и имя адресанта, то бишь собственное, и имя адресата. Это – бонтон.
– Что такое… бонтон?
– Хороший тон, товарищ. Хороший тон.
Глядели друг на друга, и в старике Колька чуял – ровесника.
– Негде, говорите, ночевать? Ко мне идемте. Слава Богу, мне есть где приютить странника.
Вместе шли по ночному Ленинграду, и Колька глядел на Неву, то блесткой бело-желтой мятой жестью, то черным беспросветным, могильным чугуном выгибавшейся под фонарями, под белесым жемчужным летним небом и полной белощекой Луной, на вздыбленных медно-зеленых коней, на памятник Петру – вот он, жуткий безумный царь, и конь змея копытами давит, и башка у Петра бешеная, выпучены глаза, железная рука убийцы вперед, в века протянута, чтобы схватить хищно за глотку умирающее на глазах время, ― битвы, победы, поражения, слава, его государство, его царство, возведенное на костях, вскормленное солью бабьих слез и солдатским порохом! а когда честь и слава покупались дешевле?! ― на каналы и речки, пожизненно закованные в гранитные кандалы, на подгулявшие ночные парочки – девушки в легких ситцах и шифонах, парни в щегольских пиджаках, а кто и в нищенских отрепьях, а кто и в солдатских гимнастерках: близко война, близко, она, собака красноязыкая, длиннозубая, дышит, Колька, в твой русый затылок.
Глядел, как разводят мосты – первый раз в жизни: и дыхание занялось! ― медленно, с натугой, и в то же время легко, будто бабочка крылья разводила, боясь слишком быстро вспорхнуть с синего ночного цветка, поднимались вверх, к звездам, две половинки тяжелого чугунного моста, будто две черных подземных, приговоренных руки напоследок пытались белое небо обнять.
Один развели. Вон второй разводят. Колька и старик шли от моста к мосту, и Колька дивился – почему фонари в Неву не падают! Ну да, крепко привинчены.
Вместе с Ипполитом Сергеичем прибрели к нему домой. Колька поздно догадался: нарочно старикашка водил его по ночному городу, – чтобы показать пареньку его красоту, его мощь, его печаль. Не знал Колька названия улицы, да на вывеске прочитал: «ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ». Литейный, железо здесь раньше лили?
Долго поднимались по лестнице. Под самую крышу. Колька даже устал и дышал часто, ртом воздух хватая. Старик открыл сказочным ключом нищую ободранную дверь.
– Живу в мансарде, ― приглашающе, радушно округлил руку. ― Вы, юноша, небось, в мансарде тоже впервые?
Все впервые. И зеленый чай с жасмином. И тонкие ломти лимона. И бутерброды со старыми, сохлыми, парчовыми шпротами. И чашки темно-синего фарфора – и старик нежно, как женскую грудь, гладит чашку и лепечет: «Гарднер». И странный белый шкаф с отгибающейся ручкой, называется «холодильник», и старик то и дело лезет в шкаф, а там – внутри – вместо полок – решетки, и почти ничего нет, пусто, только вскрытая банка консервов – а последняя шпротина уж доедена – и в масленке – прогорклого сливочного масла белый брусок. И свечка на столе, в медном подсвечнике – и снова табачные пальцы старика жадно и жалко прикасаются к красной грязной меди, и шепот жжет Колькино ухо: «Родовой. Еще елизаветинский».
Свечка лижет бело-голубым языком тьму. Свечка чадит, трещит и гаснет. Старик зажигает зеленую настольную лампу, потом опять чиркает спичкой, и опять горит свеча, оплывая тягучим сладким воском, исчезая на глазах, превращаясь в гарь и слезы, в воспоминания, во тьму.
– Николай Иваныч, разрешите, я покурю?
Колька смущенно кивает.
– А вы не курите?
– Нет.
– Похвально, юноша, похвально.
Колька следил, как сухая коричневая рука старика медленно, с сонной и гордой грацией движется от губ – к хрустальной пепельнице, от пепельницы – опять к губам. Дым папиросы пах вагонной тоской и дорогой. Тюрьмой пах. Теплушкой пах. Пах – отчего-то – ружейными шомполами, и криками расстрела, и вольной волей, когда – сапогами казенными – на белом снежку, под чистым небом, и никаких сигарет в зубах нет давненько, только махорка, она, родимая. Когда – не по-французски, а по-русски бьют тебя в карцере, с холодных нар сорвав. А еще чем пах дым? А, да: кафе на углу Невского и Фонтанки, и поэты читают стихи, и девушки тяжело и сердито дышат дымом, накурено густо, мощно, и закрывают носы кружевными платками, и на платках – кровавая модная помада – сердечками отпечатывается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: