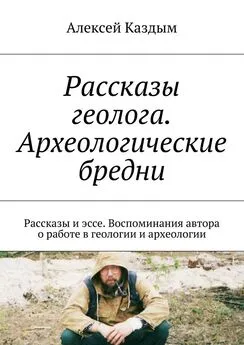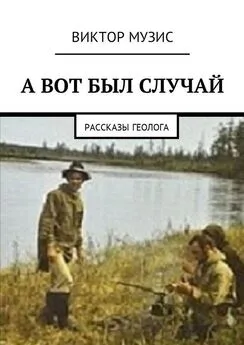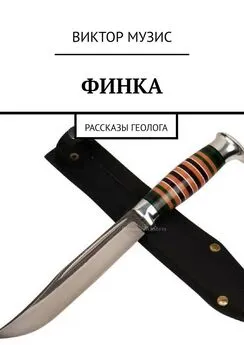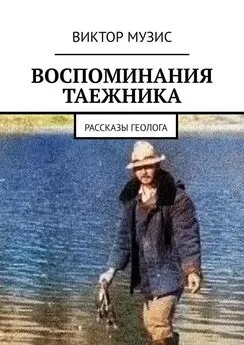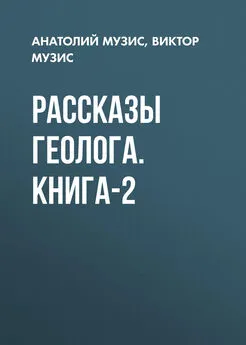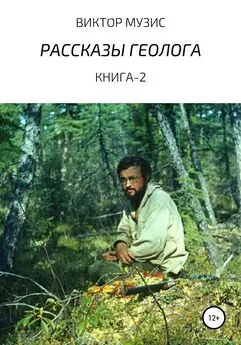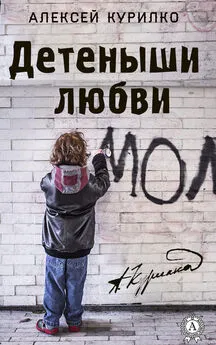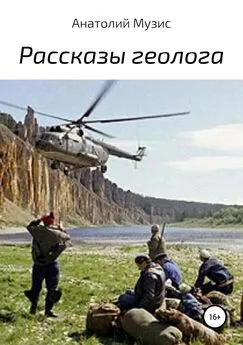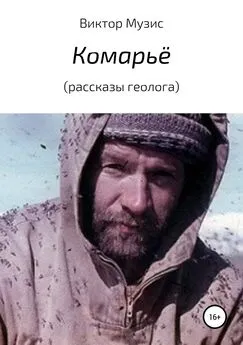Алексей Каздым - Рассказы геолога. Археологические бредни. Рассказы и эссе. Воспоминания автора о работе в геологии и археологии
- Название:Рассказы геолога. Археологические бредни. Рассказы и эссе. Воспоминания автора о работе в геологии и археологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448527722
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Каздым - Рассказы геолога. Археологические бредни. Рассказы и эссе. Воспоминания автора о работе в геологии и археологии краткое содержание
Рассказы геолога. Археологические бредни. Рассказы и эссе. Воспоминания автора о работе в геологии и археологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Палатка – брезентовый переносной дом (см. дом), где живут геологи (см. геолог). Палатка обычная дырявая, сырая и в ней не ждут писем.
Поле, полевой сезон – время работы геолога (см. геолог). Длится обычно с весны по осень. Но как писал Олег Куваев (см. Куваев О.), поле заканчивается тогда, когда из него возвращаются домой (см. дом), поэтому для некоторых геологов (см. геолог) поле длится почти круглый год или почти всю жизнь.
Погода – то, чего никогда нет.
Рюкзак – некий объемный и тяжелый предмет в виде мешка, привешенный к геологу (см. геолог) сзади. Служит для хранения образцов (см. образец), спирта (см. спирт) и тушёнки (см. тушёнка).
Спальный мешок – то, в чем спит геолог (см. геолог).
Спирт – то, что пьёт геолог (см. геолог).
Шлих, шлиховое опробование – бессмысленно перебирание камешков в ледяной воде ручьев и речек. Необходимо для получения артроза, артрита и радикулита.
Чукча, якут, эвенк – местный житель, абориген.
Энцефалитка – любая одежда, обычно рваная, одеваемая геологом (см. геолог) через голову. По непроверенным слухам защищает от гнуса (см. гнус).
P. S. Любые совпадения имен, отчеств и даже прозвищ случайны!
Уральские горы
Интересное это дело – читать старые полевые дневники и путевые заметки. За многие годы что-то забывается, стирается из памяти, а открыл дневник в потертой обложке, с потрепанными краями страниц, сразу возникают воспоминания… Раздавленный комар, какой-то стебелек, замазанный глиной лист (явная попытка установить цвет). Записи, сделанные карандашом, иногда почти стерлись, почерк торопливый, не всегда разборчивый…
Мое первое знакомство с Уралом и Уральскими горами – это события 25—летней давности. В 1985 году, я, в очередной раз бросив институт, устроился работать в ИГЕМ, и чтобы поскорее свалить из надоевшей Москвы, в середине мая поехал сопровождающим машины в Северный Казахстан, в Кустанайскую область.
Да этого у меня уже был некоторый опыт полевых работ – работал с геофизиками на Балтийском море, сплавлялся по рекам и озерам Карелии, отработал полевой сезон в Хакасии, а потом, сопровождая машину на базу, проехал всю Южную Сибирь – от Абакана до Кокчетава. Однако Уральских гор никогда не видел, и мне коренному москвичу, типичному горожанину все было внове. Ну, Башкирские степи и Предуралье не произвели нового сильного впечатления, тем более что в 1983 году я насмотрелся на сопки и степи Хакасии и Сибири… А вот когда машина стала карабкаться вверх и вверх по трассе, вот тогда я был поражен в первый раз. Урал просто очаровал, покрытые лесом горы, и рассекающая, пробитая между ними дорога, отвесные многометровые обрывы, а в долинах кажущиеся игрушечными домики город и поселков. Особенно запомнился перевал около Сима… Груженный под завязку экспедиционным барахлом, с двумя полными двухсотлитровыми бочками и кучей канистр бензина (про запас!), ГАЗ-52, натужно ревя и перегреваясь, на второй передаче вползал на перевал. Шофер тихо матерился и нервно курил, проклиная горы, перевалы и все экспедиции вместе взятые… Правда, настроение его резко улучшилось, когда перевал был преодолен и вниз можно было ехать на холостом ходу.
Второе впечатление – это географическая граница Европы и Азии. Ну как же, можно одной ногой стоять в Европе, а другой в Азии. Так сказать, в раскоряку.
Сама граница правда, не оставила должного впечатления, так оказалась всего-навсего довольно ржавым простреленным щитом, на котором было начертано на одной стороне «Европа», а на другой «Азия». Но фотография осталась, как же на память—то и не сфотографироваться. Долго после этого в Москве хвастался…
Дальше была трасса через хребет, далекие озера, тайга на склонах, Челябинск, Троицк, Кустанай…
Второй раз я уже поехал на Урал в поле, в августе 1986 году, правда, через Северный Казахстан и отработав месяц на Тиманском Кряже, в Коми. Прилетел в Кустанай, оттуда под Лисаковск, а потом с отрядом на машине в Екатеринбург (тогда еще Свердловск). В дневнике написано «…Новоильиновка – Рудный – Комсомолец – Троицк – Южноуральск – ночевка не доезжая км 25 от Челябинска… Весь день моросит дождь, холодно… Потом Верхний Уфалей – Сысерть – Свердловск…».
Далее события развивались не по плану, так как бензина было в обрез (начало перестройки!), и, оставив машину в Свердловске под охраной шофера и поварихи, и я со своим начальником поехал на поезде в Североуральск. Яркое впечатление от ночной поездки – огни слева, на склонах Уральского хребта и полная темнота справа, на Западно-Сибирской низменности. От Североуральска в Волчанск из Волчанска в Карпинск, из Карпинска в поселок Веселовка. Работали в основном на кернохранилище, работа скучная, рутинная – ящик вынул, керн описал, все записал, ящик поставил на место, и так весь день… Моросил дождь, сыро, холодно. Потом поехали в Ивдель, там машиной от ГРП в Полуночное, карьер, работа на кернохранилище, а через недельку с помощью местных геологов машиной обратно уже через Краснотурьинск в Серов, и поездом в Свердловск. Такие поездки, конечно впечатляют, каждый день новые места, но и устаешь от впечатлений, не успеваешь присмотреться, а уже на новое место… И снова дорога, уральская тайга, горы, перевалы…. Удалось все-таки по Уральским горам поездить – от Южно-Уральска до Ивдели, по всему хребту почти!
От Свердловска уже на машине через Касли, Кыштым, Аргаяш и через Челябинск поехали в район Бакала, в поселок Рудничный на сидеритовые руды. Лагерь разбили в леске, километрах в трех от поселка…
Впечатление третье – раннее утро, синие горы в дымке и клубящийся туман в долине… Вот это я запомнил навсегда… Слайды, к сожалению, давно потеряны, негативы тоже, а фотографий найти так и не удалось, но хоть в памяти что-то осталось… Погода особо не баловала, чаще всего моросящий дождик, сыро, холодно, и постоянные утренние туманы… Помнится, именно там впервые в жизни воспользовался гужевым транспортом – после работы какой-то местный мужичок подбросил на телеге по дороге к лагерю…
Потом поехали в Магнитогорск (это уже начало сентября), озеро Банное (по преданию в нём Стенька Разин купал свою рать), Чебачье, Соленое… Помню по ночам, с фонариком, раков ловили… Был уже сентябрь, и леса стали вспыхивать (как это не тривиально звучит) разными красками – желтая береза, красная осина, темно-зеленые ели… Погода великолепная, яркое солнце, настоящее «бабье лето»…
Потом работал в Магадане, в Казахстане, в Средней Азии, на Памире, в Европейской части России, и как-то до Урала добраться не получалось.
Но, начиная с 2001 года, стал сотрудничать с Музеем-заповедником «Аркаим», и, по крайне мере, на Южном Урале, стал бывать каждый год. В том же 2001 году впервые поехал на Урал зимой, в Миасс, на семинар «Минералогия техногенеза-2001», посмотрел на заснеженный Ильмень-Тау.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: