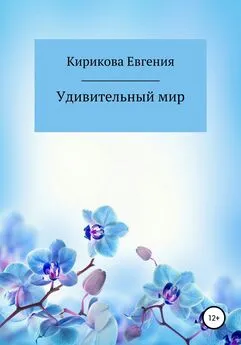Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?
- Название:Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-17468-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тим Беркхед - Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? краткое содержание
«Я попытался подвести итог тому, что мы знаем в настоящее время, и вместе с тем – тому, чего мы еще не знаем о чувствах птиц. Наши представления о сенсорных системах человека развиваются не по дням, а по часам, и если история что-нибудь да значит – а я в этом уверен, – тогда открытия, связанные с чувствами людей, неизбежно позволят нам предпринять подобные исследования для птиц. Кроме того, история со всей наглядностью свидетельствует, что наши открытия, относящиеся к птицам (и к другим животным), имеют колоссальное значение и для людей». (Тим Беркхед)
Удивительный мир птиц. Легко ли быть птицей? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Благодаря собранным сведениям как о размере улитки, так и о возможностях слуха, в настоящее время ясно, что длина улитки (а точнее – базилярной мембраны в ней) – достаточно надежный показатель восприимчивости птицы к звукам. Наряду с прочими органами (мозгом, сердцем, селезенкой), более крупные птицы обладают улиткой большего размера, но вдобавок эти птицы особенно восприимчивы к низкочастотным звукам, а мелкие птицы лучше улавливают звуки высокой частоты.
Приведем некоторые цифры, чтобы видеть закономерность, и возьмем всего пять видов: у зебровой амадины (с весом около 15 г) длина базилярной мембраны – около 1,6 мм; у волнистого попугайчика (40 г) – 2,1 мм; у голубя (500 г) – 3,1 мм; у олуши (2,5 кг) – 4,4 мм; у эму (60 кг) – 5,5 мм. Наличие такого соотношения означает, что ученые могут предсказать, насколько восприимчива птица к определенным звукам, по длине ее улитки. В сущности, недавно биологи так и сделали: исходя из размеров внутреннего уха вымершего археоптерикса (по данным фМРТ, окаменелости черепа), предположили, что его слух был почти таким же, как у современного эму, то есть довольно слабым [82] Walsh et al. (2009).
.
Совы – исключение. При таких размерах, как у сов, их улитка сравнительно велика и содержит очень много волосковых клеток. К примеру, обыкновенная сипуха, которая весит около 370 г, обладает сравнительно большой базилярной мембраной – 9 мм, содержащей около 16 300 волосковых клеток, то есть более чем в три раза превосходит результаты, которых мы могли ожидать от организма подобных размеров, и эта базилярная мембрана обеспечивает сипухе исключительно хороший слух.
Четвертое различие: волосковые клетки улитки птиц постоянно заменяются, в то время как у млекопитающих этого не происходит. Если бы коростель, кричавший над самым моим ухом, оставался на том же месте и продолжал издавать крики, а мне хватило бы глупости так и лежать рядом, громкие звуки в конце концов могли нанести ущерб моим ушам и навсегда испортить мне слух. Волосковые клетки во внутреннем ухе, отвечающие за улавливание звуков, настолько хрупкие и сложно устроенные, что избыток шума легко повреждает их. Наши уши чрезвычайно чувствительны: по сути дела, обладай мы более острым слухом, чем сейчас, мы улавливали бы шум собственной крови в голове. Рок-музыканты и их фанаты по собственному опыту знают, насколько длительный ущерб наносит ушам излишний шум. Поврежденные волосковые клетки не восстанавливаются. Вот почему с возрастом нам становится все труднее различать высокочастотные звуки. Многие знакомые мне орнитологи-любители старше пятидесяти лет не слышат тонкий и высокий голос желтоголового королька, а в обеих Америках – не улавливают пение таких видов, как зеленый лесной певун или еловый лесной певун. Речь идет не только о стареющих рокерах: Гилберт Уайт, автор «Естественной истории Селборна» (The Natural History of Selborne, 1789), в еще нестаром возрасте 54 лет жаловался, что «частые приступы глухоты прискорбно обременяют меня и наполовину лишают способности быть натуралистом» [83] White (1789).
.
Птицы отличаются тем, что у них волосковые клетки восстанавливаются . Кроме того, птицы, по-видимому, более устойчивы к повреждающему действию громких звуков, нежели мы. В настоящее время в этой сфере ведутся интенсивные исследования, так как, если мы сумеем выяснить механизмы восстановления волосковых клеток у птиц, средство от глухоты у человека может быть найдено. До сих пор вожделенная цель ускользала, но в процессе исследований ученые очень много узнали о природе слуха, в том числе о его генетической основе [84] Dooling et al. (2000).
.
Пятое различие: представьте себе, каково было бы, если бы наша способность распознавать голоса по телефону каждую зиму исчезала. Неудобно? Да, с учетом нашего образа жизни, а слуховое восприятие у птиц действительно меняется в течение года.
Одним из самых примечательных в орнитологии стало понимание, что птицы в умеренных климатических условиях претерпевают колоссальные сезонные изменения внутренних органов. Наиболее очевидные затрагивают гонады. К примеру, у самца домового воробья зимой семенники крошечные, не больше булавочной головки, но во время репродуктивного сезона они набухают и достигают размеров фасолины. Это равносильно тому, как если бы у человека яички приобретали размер яблочных семечек после окончания сезона размножения. Аналогичные сезонные изменения наблюдаются и у самок: яйцевод, зимой тонкий как нитка, становится массивной и мускулистой яйцепроводной трубкой в период размножения.
Эти грандиозные эффекты связаны с изменением продолжительности светового дня, в результате которого стимулируется выработка гормонов в мозге, а в дальнейшем – и в самих гонадах. В свою очередь, гормоны побуждают самцов к пению. Вероятно, наиболее перспективное открытие, связанное с этими изменениями, было сделано в 1970-х годах: размеры отделов мозга также варьируются на протяжении года. Это открытие оказалось полной неожиданностью, так как укоренившееся мнение гласило, что ткани головного мозга и нейроны «неизменны» – то есть с чем родился, тем и должен довольствоваться до самой смерти. То же самое считалось справедливым и для птиц. Известие о том, что в случае с птицами дело обстоит иначе, кардинально изменило и активизировало исследования в области нейробиологии и усвоения птицами пения, поскольку, помимо всего прочего это могло помочь найти лечение для таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Центры головного мозга птицы, управляющие приобретением навыков пения и его процессом у самцов, уменьшаются в конце брачного сезона и снова увеличиваются следующей весной. Работа головного мозга энергозатратна – у человека он потребляет примерно в десять раз больше энергии, чем любой другой орган, следовательно, для птиц отключение центров, в которых нет необходимости в определенное время года, – разумная тактика энергосбережения.
В районах умеренного климата птицы поют главным образом весной; именно в это время самцы определяют границы своей территории, которую защищают с помощью пения, и находят самку, привлекая ее опять-таки пением. Однако некоторые виды птиц умеренного климата, например оляпки и поползни, определяются с границами своих территорий в конце зимы и начинают петь раньше, чем большинство других птиц. Слух певчих птиц становится особенно чутким в то время года, когда пение имеет наибольшее значение.
И это логично. Если пение – преимущественно весенний процесс, птицам идет на пользу улучшение слуха именно в этот период. Например, самцам требуется отличать соседей по территории от тех, кто соседями не является, но представляет более серьезную угрозу, а самкам – различать потенциальных партнеров. Изучение трех североамериканских певчих птиц – каролинской гаички, острохохлой синицы и каролинского поползня [85] Lucas (2007).
– показало, что сезонные изменения затрагивают и чувствительность (способность улавливать звуки), и обработку (способность мозга интерпретировать эти звуки). Джефф Лукас, проводивший эти исследования, предлагал расценивать полученные данные так, словно представители трех видов птиц слушали оркестр:
Интервал:
Закладка:
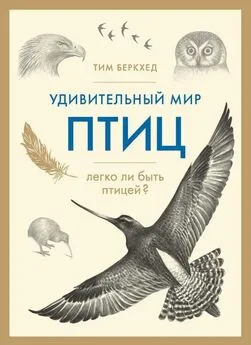
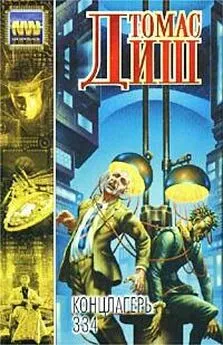
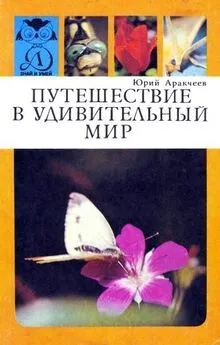

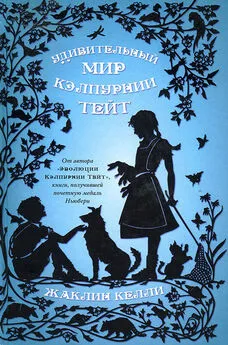
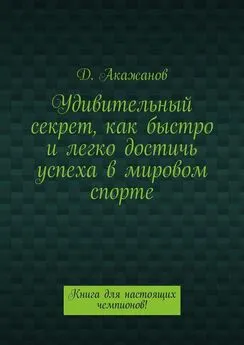
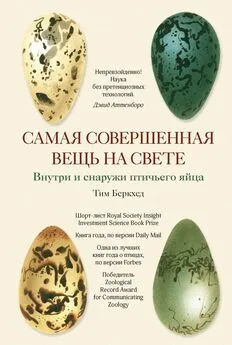
![Тим Беркхед - Самая совершенная вещь на свете [Внутри и снаружи птичьего яйца]](/books/1069359/tim-berkhed-samaya-sovershennaya-vech-na-svete-vnutr.webp)