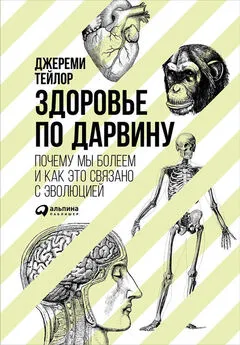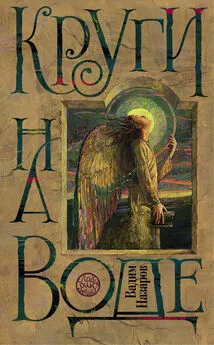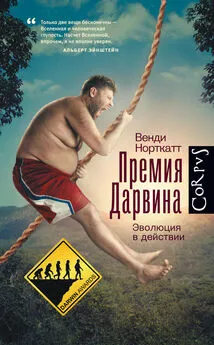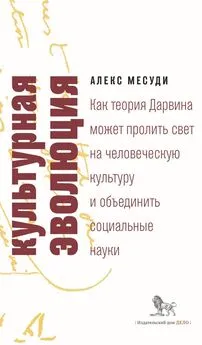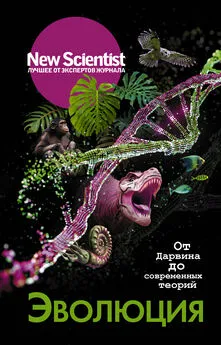Вадим Назаров - Эволюция не по Дарвину
- Название:Эволюция не по Дарвину
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЛКИ
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-382-00067-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Назаров - Эволюция не по Дарвину краткое содержание
Для преподавателей, аспирантов и студентов биологических факультетов университетов, академий и педагогических вузов, слециалистов-биологов, философов, а также широкого круга читателей, интересующихся биологией, и, в частности, современным состоянием эволюционной теории.
Эволюция не по Дарвину - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сложившаяся ситуация привела к резкому отставанию философских и методологических оснований современного эволюционизма от его эмпирической базы. Фактически они предстают как реликт старой эволюционной парадигмы, разрушаемой новыми фактами, но еще удерживающейся на плаву в силу инерции мышления. Особенно острый дефицит критической рефлексии обнаруживается у столпов и апологетов СТЭ. Это видно хотя бы из того, что они обычно апеллируют к попперовскому приему опровержения не для того, чтобы подвергнуть анализу собственную позицию, как это еще до Поппера делал Дарвин, а лишь для дискредитации оппонентов.
Если апологеты СТЭ чужды самокритике и при этом продолжают удерживать позиции в научно-образовательной сфере по всему миру, то не приходится ожидать обилия работ, где бы СТЭ рассматривалась в интересующем нас аспекте. Из признанных методологов в бывшем Советском Союзе с разбором этой теории выступил один А. А. Любищев. В западных странах большинство работ этого плана касается только классического дарвинизма.
В СССР после освобождения биологии от монополии лысенковщины усиленно пропагандировалось утверждение, будто СТЭ не только стала последовательной преемницей дарвинизма, но и существенно повысила статус концепции отбора тем, что подвела под нее генетическую базу, обоснованную экспериментальными и математическими методами. Благодаря этому естественный отбор якобы представал как аксиома, не требующая доказательств.
Однако по сравнению с теорией Дарвина СТЭ оказалась более узким синтезом. В нем не нашлось места для сравнительной анатомии, эмбриологии, макросистематики, науки о поведении и для экологии. Он не проявил интереса к процессам осуществления наследственности в индивидуальном развитии. Зато в СТЭ сочли возможным включить явления преадаптации, генетического дрейфа, ненаследственной изменчивости, чуждые ее логической структуре. Некоторые положения Дарвина оказались искаженными или вообще не получили отражения в новом синтезе. Так, например, в него не вошли организмоцентрические (типологические) аспекты эволюции, случаи формообразования без отбора, представления о соотношении индивидуального и исторического развития и, разумеется, допускавшееся Дарвином наследование приобретенных признаков. Важнейший элемент дарвиновской теории — борьба за существование — оказался поглощенным дифференциальной плодовитостью. Все это преподносилось как освобождение дарвинизма от его ошибочных или слабых сторон.
Таким образом, характерные для теории Дарвина логическая последовательность и взаимосвязь постулатов в СТЭ были нарушены, и вся эта теория оказалась лишенной стройности и целостности классического дарвинизма. Они были принесены в жертву намеренному стремлению к формализации и аксиоматизации описания процесса эволюции на основе принятия односторонней генетико-популяционной модели.
Это и сообщило эволюционной теории аксиоматический дедуктивный характер и приблизило ее по типу построения к теоретической физике. Действительно, в ней появились обшие и необходимые утверждения — первый закон Менделя и в значительной мере выведенный из него закон Харди — Вайнберга, представление о неизменности генома в онтогенгезе и т. д., образовавшие дедуктивную систему. Добжанский (Dobzhansky, 1937), а вслед за ним и Рьюэ (1977) писали о законе Харди — Вайнберга, что он является «основой популяционной генетики и современной эволюционной теории» и что без него и подобных ему законов эволюционные объяснения свелись бы к нулю.
Таким образом, синтетическая теория носила сугубо редукционистский характер, а экстраполяция механизма микроэволюции на макроуровень в еще большей степени усилила это впечатление. Приходится только удивляться, как ее творцы не заметили, что, игнорируя специфичность разных уровней движения живой материи, они совершали элементарную методологическую ошибку.
А. А. Любищев, отмечая ряд методологических, логических и философских предрассудков СТЭ, излагал их в обобщенном виде по пунктам. Это: «1) экстраполирование выводов, справедливых на одном уровне; 2) переоценка выводов эксперимента и игнорирование косвенных данных; 3) злоупотребление методом доказательства от противного, законом исключенного третьего; 4) склонность искать один ведущий фактор эволюции; 5) отвергание «с порога» факторов психоидного характера» (Любищев, 1982. С. 197). Всем этим синтетисты, по Любищеву, «отходят от духа самого Дарвина».
В качестве недостойного науки приема Любишев (1973) и вслед за ним мы вынуждены отметить игнорирование приверженцами СТЭ огромной массы «неудобных факторов» и соображений, противоречащих этой теории или не находящих в ней объяснения. В сочетании со стремлением к догматизации своих постулатов это ясно показывает, что «система селектогенеза сильна не своей научной, а чисто философской стороной» и потому «такое теоретическое объяснение, как синтетическая теория эволюции, есть плохое объяснение для систематики и эволюции и должно быть отвергнуто, даже если бы не было никаких конкурирующих объяснений» (Любищев, 1982. С. 244). В другом месте Любишев допускает применимость СТЭ в «сравнительно ограниченной области микроэволюции» (Любищев, 1973. С. 50).
Особо необходимо отметить два тесно связанных друг с другом и методологически совершенно несостоятельных исходных положения СТЭ, ставших главной причиной ее ошибочности.
Выше уже говорилось, что заслуга СТЭ в изгнании типологического подхода и замене его популяционным, как это хотели бы представить Майр и логические эмпирики, оказалась ложной. Важнейшие завоевания эволюционной мысли — филогенетическая систематика, учение об архетипах и планах строения, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и др. — были бы невозможны вне типологических взглядов. Опираясь на типологический и организмоцентрический подходы, А. С. Северцов разработал концепцию морфологических закономерностей эволюции, а И. И. Шмальгаузен осуществил широкий эволюционный синтез, отправным моментом которого послужило учение об организме как целом в индивидуальном и историческом развитии.
Устранение типологического мышления означало исключение из описания эволюционного процесса целостного организма с присущей ему активностью, а вместе с ним и целого комплекса проблем и дисциплин. И это стало самым крупным пороком СТЭ.
Хотелось бы обратить внимание, что один из инициаторов популяционного стиля мышления — Четвериков (1926), говоря о перспективах построения «окончательного здания эволюции», включал в него в качестве обязательной предпосылки познание закономерностей эволюции организмов. Та же мысль о значении организма, особи как важнейшего средоточия тайн эволюции звучит у С. Гулда, одного из создателей теории прерывистого равновесия, палеонтолога и, естественно, типолога. «Новая эволюционная теория, — пишет он, — восстановит в биологии концепцию организма» — и добавляет, что «организмы — не бильярдные шары, ударяемые детерминационным способом кием естественного отбора и катящиеся в оптимальные места жизненного стола» (Gould, 1982. Р. 144). По справедливому замечанию В. А. Красилова (1986. С. 31), «редукция организма», допущенная синтетической теорией, «равносильна самоустранению биологии».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
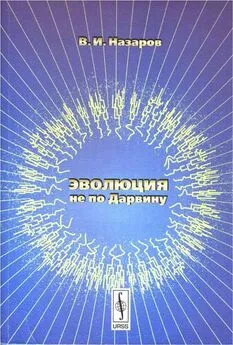

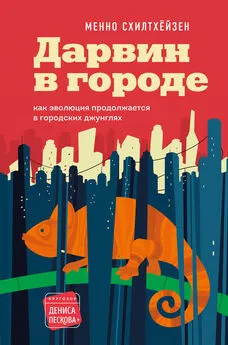

![Коллектив авторов - Эволюция. От Дарвина до современных теорий [litres]](/books/1072098/kollektiv-avtorov-evolyuciya-ot-darvina-do-sovremen.webp)