Кирилл Кобрин - На руинах нового
- Название:На руинах нового
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:978-5-89059-331-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - На руинах нового краткое содержание
Эссе Кирилла Кобрина, собранные под этой обложкой, – об устройстве некоторых книг, из которых эта эпоха была сделана. Пертурбации с черепом автора трактата XVII века о погребальных урнах; лондонские благотворительные лавки, где заканчивают свой век еще недавно волновавшие публику сочинения; яростный мизантроп Свифт, брезгливый мизантроп Владимир Сорокин; Владимир Ленин, Франц Кафка, Томас Манн, Хорхе Луис Борхес, Александр Кондратов и другие создатели нашего культурного обихода – в новой книге Кобрина.
Автор смотрит на руины нового с меланхолией и благодарностью. Эссе, вошедшие в книгу, публиковались в бумажных и электронных изданиях на протяжении последних пяти лет.
На руинах нового - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А вот Кафка – это вариант судьбы Тао Юаньмина, если бы тот не ушел со службы. Представим себе древнекитайского чиновника, который ненавидит свою контору, но не может покинуть ее по самым разным обстоятельствам. Днем он служит, а ночами сочиняет стихи вроде тех, что написал Тао Юаньмин, озаглавив «Впервые исполняя должность советника полководца-чжэньцзюня, написал при проезде через Цюйэ». Только Кафка не полководцу-чжэньцзюню давал советы, а страховал рабочих. То есть он как бы был в гуще жизни – что может быть более вовлеченным в тогдашний индустриальный мир, нежели такая служба? Тем не менее Кафка всегда ускользал. На его могиле можно было бы выбить эпитафию с могилы Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Только не выбьешь: во-первых, кладбище еврейское, во-вторых, здесь лежит вся его семья. Свою тао-юаньминскую деревню Кафка устроил в самом неподходящем для того месте – в еврейской центральноевропейской семье, в страховой конторе. Как и у Джойса с Беккетом, одной ее стеной была лингвистическая: Кафка писал на немецком, живя в окружении людей, говоривших на чешском, идише и – ближе к концу – пробовавших иврит. Да и немецкий у него был свой, не просто немецкий, и даже не пражский немецкий, над которым посмеивались немцы в Германии, а инфантильный немецкий начитанного обывателя, с интонацией, позаимствованной у тихого безумца Роберта Вальзера. Второй стеной деревни Кафки был, конечно же, его туберкулез. Он его и убил.
Фернандо Пессоа, проведя детство и юность на другом конце света, приехал в Лиссабон лет в шестнадцать и более его не покидал никогда. Кажется, ничего не зная о Кафке, он служил – хотя не так успешно, как соавтор системы страхования рабочих Богемии от несчастных случаев, и не страховал, а переводил деловые бумаги. Как Тао Юаньмин и Джеймс Джойс, Пессоа охотно осушал чашу, но, в отличие от первого, не считал необходимым упоминать об этом в своих стихах. Подобно Джойсу Пессоа придумал себя Улиссом, придумывавшим себе разные имена и разные персоны; если и были среди титанов европейского литературного модернизма истинные буддисты, то это Пессоа и Борхес. Оба считали, что никакого «я» не существует; Пессоа настолько в этом преуспел, что даже всеведущий Борхес, кажется, никогда о нем не слыхивал. Что касается последнего, то его отношения с миром были самыми, если угодно, радикальными: Борхес мир в упор не видел.
Пока я так и сяк вертел в голове последнюю фразу предыдущего абзаца, ко мне подошел китаец лет пятидесяти. «Хелло», – сказал он мне. «Хелло», – сказал ему я, очнувшись будто ото сна. Китаец широко улыбался и говорил что-то на китайском, указывая на меня, на скамейку, где я сижу, на раскрытую «Китайскую классическую поэзию», на термос с зеленым чаем, который я по местному обычаю таскаю с собой, на мой рюкзак, и еще он широко обводил руками, указывая на бамбук, на прекрасный парк вокруг, на веселых и довольных людей, в число которых он явно включал и себя самого. Я тоже сидел и улыбался, делая вид, что улыбаюсь понимающе, и качал головой. Интересно, что китаец говорил? Вряд ли плохое – слишком уж дружеский у него был вид, он даже порывался пожать мою руку и осторожно похлопать по плечу. Если хорошее, то, быть может, он говорил, мол, смотри, как вокруг здорово, тепло, прекрасный парк, люди отдыхают и веселятся, а ты уткнулся в свои мысли, в свои книжки, прихлебываешь в одиночку свой остывший чай, налицо твой разлад с веком нынешним, нехорошо, беспокойно мне. Или наоборот, он говорил такое: удивительно, вроде бы чужак, пришелец бледнолицый, а ведешь себя как древний мудрец, укрылся в дебрях от людей, древние книги читаешь, о, раздумья твои глубоки! А может, он что-то совсем другое говорил, скажем, о дружбе народов или о романе Д. А. Пригова «Катя китайская», бог его разберет. Но мне понравилось, даже как-то взбодрило это внезапное проявление дружеских чувств в парке Ваньцзянлоу, что рядом с могилой Сюэ Тао, так что, когда китаец продолжил свой путь, я немножко еще подумал. И придумал вот что.

Дело в том, что все это вообще не о деревне, не о рисовом вине и даже не об окружающих людях и древних книгах. Вышеперечисленное – как пробковые обои или документы «Компании по страхованию рабочих Северной Богемии» – любопытные украшения, детали собора, вроде витражей и горгулий, но не сама суть его, не его структура, не его смысл. А смысл истории про Тао Юаньминя и его наследников довольно прост. Эта история не о том, куда и как ты отходишь в сторону от мира, а о формальном, абстрактном механизме идеальной дистанции, о том, как эту дистанцию держать, не впадая ни в одну из крайностей, это история об идеальном топосе, который выбирает мышление, в данном случае – художественное, чтобы иметь возможность функционировать. Оттого детали сюжета – они зависят от конкретного исторического периода, от социальной системы, от религии, много от чего еще, даже от климата. А суть сюжета – она внеисторична, ибо, да простит меня читатель, все, что касается того, как устроено мышление и что нужно для его работы, все это уже философия. Собственно, тут единственная настоящая философия, которую можно обнаружить в литературе, философия пространственной точки, откуда происходит мышление, а за ним – точнее, одновременно с ним – описание, повествование, заговаривание мира, вымышленного этим мышлением.
Я собрал свои вещи в рюкзак, закинул его за спину и пошел прогуляться среди людей, бормоча:
Ветер ущелий
приносит с востока свежесть.
Чарка весенняя
снимет усталость и голод.
Все так, только дышать в этом городе было по-прежнему нечем. Ветер с востока есть, а свежести нет.
«Берггоф», всеобщая болезнь модерности
О человеческий образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии, дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам!
Томас Манн. Волшебная гора[6] Манн Т. Волшебная гора. В 2 т. Пер. В. Курелла и В. Станкевич. М.: Издательство «Крус»; СПб.: Издательство АО «Комплект», 1994. Т. 1. С. 407. Далее все ссылки на это издание даются в тексте в скобках: сначала том, потом страница.
Франц Кафка прожил сорок лет, не дотянув до сорокаоднолетия ровно месяц. В возрасте 34 лет у него диагностировали туберкулез; в самом начале 1920-х течение болезни приняло необратимый характер, и 3 июня 1924 года он скончался в австрийском санатории в Киерлинге, что под Веной, от истощения, вызванного невозможностью приема пищи. Перед смертью он вносил правку в свой недавно законченный рассказ «Голодарь». Помимо горловой чахотки, Кафку мучили неврозы, запоры, бессонница, головные боли и другие расстройства. Многие врачи и исследователи уверяют, что большинство из этих напастей носило психосоматический характер. Марселю Прусту было девять лет, когда у него случился первый приступ астмы. С тех пор родные и друзья считали Пруста слабым, нездоровым, требующим особого отношения. Сам он, безусловно, разделял мнение окружающих. С годами болезнь завоевывала все более обширные позиции в его теле и в его сознании; с 1919 года Пруст почти перестал выходить из комнаты, обитой пробковыми обоями, а преданная служанка Селеста Альбаре ревностно следила за тем, чтобы ее господину не приносили цветов и резко пахнущих субстанций, – порой она даже с подозрением обнюхивала самих посетителей. Это не помогло: в 1922 году Марселю Прусту стало совсем плохо, и его жизнь поддерживалась исключительно усилием воли: астматик решил не умирать до тех пор, пока не завершит труд своей жизни «В поисках утраченного времени» хотя бы начерно. Осенью 1922-го он написал последнюю фразу – и вскоре умер от абсцесса легкого, ставшего результатом пневмонии, вызванной астмой. Прусту был 51 год.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







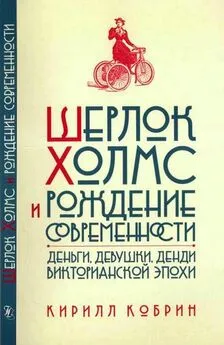

![Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)
