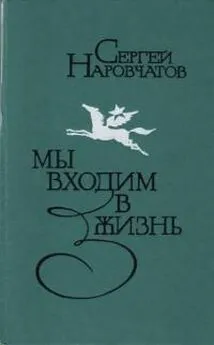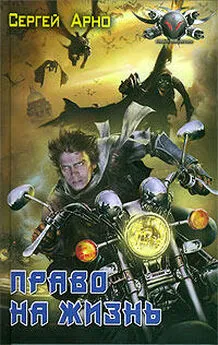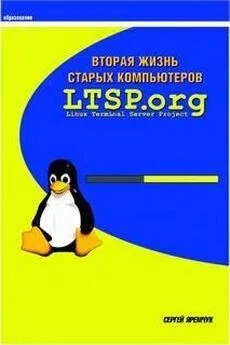Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Была она присуща и другим. Всем нам, хотя, может быть, в меньшей мере, чем Мише. Тот же Борис Слуцкий одновременно учился в Юридическом институте, Литинститут был его вторым вузом. Павел Коган преподавал историю в одной из московских школ. Другие ребята тоже не сидели сложа руки. Это, конечно, сверх каждодневной, чуть не круглосуточной (некоторым даже во сне снились стихи) поэтической работы. И потом у каждого были свои планы, реализация которых тоже заполняла время. Недавно, роясь в старых бумагах, я наткнулся на свое давнее расписание. Чего только в нем не было! Стадион — сдать оставшиеся нормы ГТО II степени. Парашютный кружок. Музей западной живописи — остановиться на Гогене. Экзамен по русскому театру 18 в. в ГИТИСе. Свидание с Н. Литкружок в Гослитиздате. Чтение стихов на семинаре Сельвинского. Вечеринка в усачевском общежитии (перечень участников). Дописать главу в поэму. Комсомольское собрание. Все здесь перемешано — стадионы, свидания, музеи, стихи, все разбросано на несколько дней, все успевалось.
Очень много читали, ходили по музеям, концертам, спектаклям. Занимались военизированным спортом: «Пригодится в будущем!» Спорили на вечерах и вечеринках, на литкружках, семинарах, собраниях. Умудрялись при этом учиться в нескольких институтах. Успевали влюбляться и звенеть стеклом на студенческих пирушках.
Если выделить в этой кажущейся пестроте одну главную линию, она найдется без труда. Постоянным фоном нашей жизни была подготовка к войне. Война входила в наше сознание как некая непререкаемость. Год-два, но обязательно начнется. Пакт с Германией никого в заблуждение не вводил. 22 июня, конечно, явилось неожиданностью, но приближение грозы ощущалось всеми. Многие ожидали ее осенью, после уборки урожая. Все повернулось иначе.
По трагическому совпадению, стихов того времени больше всего осталось именно от Павла Когана, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, погибших после на фронтах. Многие строки Михаила затерялись. Не говоря уже о тетрадях стихов, пропавших в военном училище, исчезли стихи, которые читались им повсюду. Помню, весной сорок первого я спорил с Мишей по поводу его стихотворения «Нестор-нетописец». Стихи были хлесткими, веселыми, остроумными. Летописцу XI века доставалось с позиций ХХ за искажение истинных событий. Поэтому «нето», а не «лето». Мы стояли в литинститутском дворике, солнце било в глаза, я корил Кульчицкого за исторический нигилизм, он, хохоча, огрызался. В посмертных публикациях я этих стихов не встречал.
Сколько бы он мог написать! Последние сохранившиеся его строки были горько строгими:
Не до ордена.
Была бы родина
с ежедневными Бородино.
«Ежедневные Бородино» начались после его гибели. Над ним уже тогда стоял «мрамор лейтенантов, фанерный монумент» где-то в приволжских степях. Долго не верилось, что это так.
Я верю: невозможное случится,
Я чарку подниму еще за то,
Что объявился лейтенант Кульчицкий
В поручиках у маршала Тито.
Невозможное не случилось, и строки, написанные мной спустя год после смерти Кульчицкого, остались свидетельством еще одной неоправдавшейся надежды.
А теперь о надеждах оправдавшихся. Михаил Кульчицкий по своим задаткам яркой поэтической талантливости, соединенной с дьявольской работоспособностью, мог бы занять одно из первых мест в нашей поэзии. Этому помогли бы такие качества, которые встречаются в сочетании крайне редко: природное чувство слова и ритма, широкий мыслительный горизонт, живое ощущение современности. Но и то, что он успел сделать, весьма значительно. Среди поэтов своего поколения он наиболее четко и объемно воплотил в поэзии единство патриотической и интернационалистической идеи, характерное для предвоенной молодежи. Поэзия Кульчицкого не стала самозамыкающимся явлением, ее живыми соками питалась вся поэзия фронтового поколения.
А можно —
долго мечтать
про коммуну,
а надо думать —
только о ней,
и необходимо
падать
юным
и — смерти подобно —
медлить коней!
Почему же все-таки «необходимо»? Никак не хочется с этим смириться...
«Только чуточку прищурь глаза...»
«Куба, о.Пинос, Четверг.
13.VI.74 г.
На берегу Карибского моря, «флибустьерского, дальнего, синего...». В холле небольшого отеля, построенного еще американцами при Батисте, целую стену занимает грубоватая мазня, изображающая высадку на берегу острова пиратского экипажа во главе с одноногим Сильвером. Конечно, это позднейшая привязка истории к литературе. У Стивенсона ищут сокровища Флинта. Они, по легендам, погребены на одном из подобных островов. Пинос, судя по материалам местного музея, был одним из центров пиратских операций. Отсюда стрела, соединяющая стивенсоновский роман именно с этим островом. Впрочем, на эту роль претендуют и другие места, например о. Кокос в Тихом океане. Но это уже большая натяжка. В стивенсоновские времена Панамский канал еще не существовал, а путешествие вокруг мыса Горн никак не отражено в романе. А о. Пинос впрямь подходит для развертывания действий его героев. И не только романа, а и павла-коганской «Бригантины»:
Только чуточку прищурь глаза...
А море действительно синее, пальмы в уровень балкона топорщат свои веера, мерно шумит кондиционер в номере. Вчера по пути сюда заехали в кокосовую рощу. Старик сторож своим мачете срезал верхушки орехов, и я впервые пил кокосовый сок. Это прелесть что такое! Перед тем мой товарищ по поездке, азербайджанский поэт Фикрет Годжа, продемонстрировал изрядную ловкость, взобравшись на пальму и сорвав с нее полдюжины орехов. Один из них сейчас передо мной на столе.
Потом пиво, вкусное и холодное, и концерт небольшого джаза перед заезжими путешественниками в пустынной таверне на берегу черного пляжа. Песок — черный, и в этом тоже есть нечто небывалое».
Это — одна из сотой части кубинских наблюдений, несколько абзацев из записной книжки. Куба остается в памяти страной революционного энтузиазма, победоносного терпения, пламенного коммунизма. Романтика, а ею проникнут каждый шаг молодого государства, окрашена там в алые тона. Но при чем же здесь одноногий Сильвер, встающий дорожным знаком на всех перекрестках Пиноса? Почему музей в Новой Хирене заполнен репродукциями флибустьерских кораблей? Это просто память о далеком отрочестве острова. Отрочестве цветном и буйном, жестоком и кровавом. Такая же память, как каменные бастионы испанской крепости в Гаване. Кто из них был хуже — колонизаторы или флибустьеры? Одни других стоили.
Но это — если к делу подходить всерьез. А так — разве лишь твердолобых пуристов возмутят страницы Марка Твена, где Том Сойер именует себя «Непобедимым мстителем испанских морей», а Джо Гарпер «Джеком Кровавой Рукой». Смех и грех, но томсойеровщина живет до седых волос чуть ли не в каждом взрослом мужчине. Популярность приключенческого жанра одно из постоянных тому свидетельств. Любительниц такого жанра среди женщин вы встретите очень редко.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: