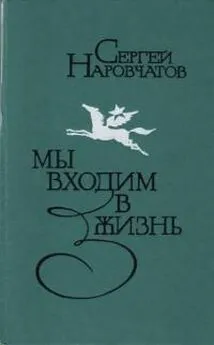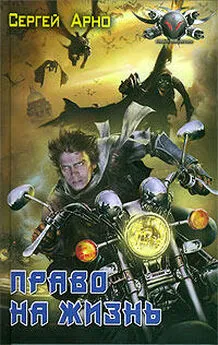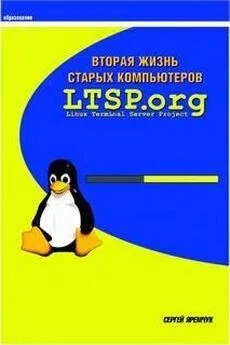Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь
- Название:Мы входим в жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Наровчатов - Мы входим в жизнь краткое содержание
Мы входим в жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дошло дело до меня. Я волновался мучительно, до головокружения. Мне казалось, что я пишу стихи не хуже, чем Костя и Женя. По-другому, но не хуже. А вдруг окажется, что лучше? Вдруг Асеев поразится появлению нового таланта? Скажет веские и значительные слова и поздравит меня с блестящим началом? Или разругает вдребезги, произнесет беспощадный приговор, отсоветует вовсе писать стихи? Но нет, этого не может случиться, у меня есть что ему показать! Так я переходил от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, ожидая своей очереди. И вот наконец я стою посредине комнаты, вцепившись помертвелыми пальцами в спинку стула, и читаю свои стихи.
Господи! Что я читал! До сих пор, как вспомню, обжигающий стыд охватывает мою огрубевшую в литературных поединках душу. Но без шуток: я и впрямь при этом воспоминании заливаюсь краской, как будто мне снова восемнадцать лет. «Песня юнги» — так назывались эти бесподобные стихи. Весь набор псевдоромантических и псевдоморских штампов был израсходован на них без остатка. «Синеглазый вечер... Девушки... Прощанье... Сумрак зажигает в гавани огни...» И т. д. и т. п. Были там и «вспененные волны», и «бесшабашный ветер», и конечно же «синие просторы». Но всю эту белиберду я декламировал с неподдельным пафосом, разгораясь по ходу чтения все больше и больше. Но тут произошло чудо! Асеев встал с кресла и как завороженный, не сводя с меня глаз, стал пятиться к двери в спальную. Лицо его выражало неподдельный восторг, он просто пожирал меня глазами. «Понравилось! — обожгла меня ослепительная догадка. — Понравилось, черт побери!» Асеев наткнулся спиной на дверь и ухватился за косяк, по-прежнему не отрывая от меня восхищенного взгляда.
— Оксана! — позвал он.— Оксана, иди скорей сюда...
«Зовет жену... Вот так успех... Ах, как здорово!..» — мелькало в моей помутившейся голове. В комнату вбежала Оксана — та самая, что «шла ветрами по весне» в знаемых наизусть стихах, а в жизни милая и добрая Ксения Михайловна.
— Оксана! — возопил Асеев.—Ты посмотри, какие у него глаза! Ка-кие глаза, умереть можно!
Все во мне оборвалось. Я пробормотал последние строчки злосчастной «Песни» и умолк. Меня тормошила Ксения Михайловна, весело хохоча и говоря какие-то женские приятности; радостно шумел хозяин дома, повторяя сакраментальную фразу; неразборчиво гудели ребята, отнюдь не понимая размеров обрушившегося на меня несчастья. А я стоял среди этого шума и смеха — доброго шума, доброго смеха! — и готов был провалиться сквозь паркет. С последней надеждой и с начинавшимся отчаянием я вскидывал глаза — «какие глаза!» — то на Асеева, то на Ксению Михайловну, то на друзей...
Ни слова о стихах!
И даже в передней, когда, прощаясь, я все же заикнулся: «А как вам мои стихи?» — Асеев опять дернул за руку Оксану и с обидным восхищением повторил:
— Нет, ты посмотри, какой парень. Глазищи-то, а? Смерть девчонкам!
С тех пор прошло много лет. Со спокойным сочувствием смотрю я на худощавого широкоплечего парня, который, отделившись от друзей, размашисто шагает по ночной Москве. Он смаргивает слезы, но не вытирает их, совсем еще юнец. Но вот он остановился и с размаху ударил кулаком о фонарный столб.
В эту ночь он изорвет в клочки три тетради, исписанные сверху донизу. Он попробует начать все сызнова. В восемнадцать лет это не кажется невозможным. И все же это трудно даже в восемнадцать. Ведь как писать по-другому, он еще не знает. Он знает лишь, что так писать, как до сих пор, он не будет.
Вот что наделала одна фраза Асеева! Оглядываясь назад, я не могу не позавидовать Николаю Николаевичу. Вряд ли кто-нибудь из моего поколения сможет не только что одним словом, а одной лишь «фигурой умолчания» вызвать подобный душевный переворот в каком-нибудь абитуриенте.
С Асеевым после я встречался много раз. Уже через год он обрадовал меня до умопомрачения, сказав про свеженаписанное всего два слова. «Это — стихи». Утвердительная интонация показала мне, что я стучусь не в глухую дверь.
Михаил Кульчицкий
Трудно передать ощущение предвоенной молодости. Полная внутренняя несвязанность в жестких рамках внешней дисциплины. Беззаботность в частностях с целеустремленностью в главном. Замах на огромные задачи, пренебрежение к повседневным заботам. Поиски легенд в прошлом, угадывание их в будущем. Все это вместе можно назвать, наверное, романтикой молодости. Молодости, имеющей точный адрес: Москва накануне войны.
Теперешние определения носят поневоле общий характер. Абстрагирование возникает на многоверстном и многолетнем расстоянии. Человек, побывавший в Тюмени, Иркутске, Магадане, говорит: «Был в Сибири». Если разговор продолжится, расскажет, какие места он видел. Наш разговор только начат, и я попытаюсь объяснить его начальные положения на живом примере. Пример действительно живой, хотя человек, стоящий за ним, давно ушел из жизни.
В 30-е годы Москва была намного меньше столицы 70-х годов. То же можно сказать о Москве литературной, она была малочисленнее и обозримей. Молодые поэты легко находили друг друга внутри кольца «Б» и в студенческих общежитиях за его пределами — Останкине, Усачевке, Стромынке. Помогали сближению издательства и редакции, при которых были организованы литературные кружки и объединения. Гослитиздат, «Комсомольская правда», «Огонек», «Октябрь» стали местами постоянных встреч поэтической молодежи. Твердого прикрепления не было, мы регулярно посещали гослитиздатское объединение, а когда заблагорассудится, слушали и читали стихи в других кружках. Когда заблагорассудится! Кроме духовной пищи приходилось думать о материальной, попросту говоря, о еде. С большей или меньшей щедростью ее обеспечивали литкружковцам шефские организации. Москвичей, в том числе меня, это занимало меньше, чем приезжих, обеды и ужины нас ждали дома. Но провинциалам редакционные чаи были немалым подспорьем. И бутерброды в «Комсомолке» или «Огоньке» трезво включались в студенческий бюджет.
С Кульчицким я познакомился скорее всего на одном из таких поэтических вечеров. Почему «скорее всего», а не более определительно? Да потому что в памяти сохранилась непрерывность знакомства. Без начала, а пожалуй, и без конца. Не помню, как встретились, не помню, как расстались. Вот с Павлом Коганом или Георгием Суворовым момент первого знакомства отложился в памяти четко, до этой минуты не знал, с этой минуты узнал. А здесь — нет. Ощущение постоянного присутствия. Оттого, наверное, и не поверил в его гибель. И заявил об этом в стихах настолько уверенно, что на меня даже начали ссылаться: «А вот утверждают...» Но об этом после.
Воспринимался Кульчицкий как явление крупное и обещающее. Прежде всего — крупное: надежды подавали многие, но уверенность в их исполнении колебалась. Он же сомнений не вызывал. Писал порой плохо, чаще хорошо, иногда — отлично, но сквозь все стихи проходила одна равнодействующая линия. Линия серьезного таланта. Одарен он был стихийно, образность являлась его природным свойством, ощущение слова — врожденным. Последнее для него было особенно важным. Он рос на стыке двух языков — украинского и русского. Переводчики знают, как трудно добиваться точной передачи смысла в близко звучащих словах. Малейшая ошибка — и пропадают колорит, оттенки, нюансы. А разность ударений! Писать стихи по-русски мальчику, обучавшемуся в украинской школе, намного труднее, чем ребятам, получавшим навыки родной речи в глубине России. Но то, что составляет препятствие для одного, становится опорой другому. Над ошибками Кукольника потешались, речь Гоголя вызывала восхищение. Между тем оба и в одно время учились в Нежинском лицее. Кульчицкий принадлежал по рождению к старинной русско-украинской интеллигенции. В роду его были ученые, писатели, общественные деятели. Русский и украинский языки он знал с пеленок, и они счастливо дополняли друг друга в его поэтической речи. Лучшим примером будут его стихи, где соединяются «русское до костей», «советское до корней» и «украинское тихое слово».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: