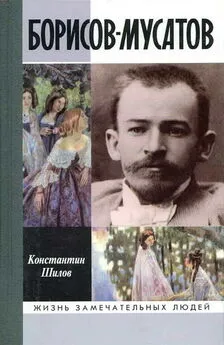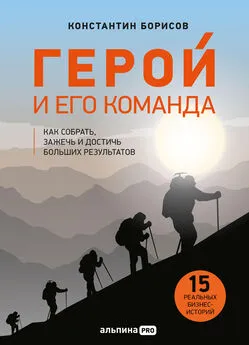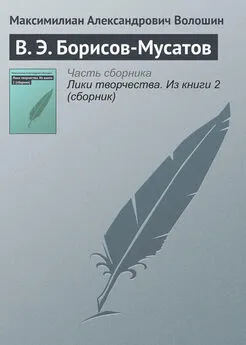Константин Шилов - Борисов-Мусатов
- Название:Борисов-Мусатов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02384-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Шилов - Борисов-Мусатов краткое содержание
Дополненное новыми архивными материалами переиздание книги о Борисове-Мусатове приурочено к 130-летию со дня его рождения. Оно поможет всем любящим искусство лучше узнать человеческий облик и путь художника, оставившего долгий и все более ценимый нами след в судьбах русской культуры.
Борисов-Мусатов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот о живописи как раз не получился разговор. Виктор рискнул еще раз спросить о французской нынешней школе, и Николай Николаевич, скользнув по нему взглядом, опять отозвался высоко — не столько о французском искусстве, сколько о самом народе, который во многом остается «нашим учителем». А когда попросили объяснить, каким путем дошел он до своих убеждений, Ге начал рассказывать всю свою жизнь, как искал он свой идеал и как, найдя его, «переродился».
Заговорив об идеале, коснулись Италии и Франции — Ге перешел на литературные темы, и вечер, утратив первоначальную нервозную горячность, переломился, получив лирическую тональность. Читали ли они Мопассана, над переводами которого начал работать Лев Николаевич?.. Возбужденный Ге начал пересказывать один из полюбившихся ему мопассановских рассказов — «Лунный свет». Рассказ был о любви, и действие его происходило в благоуханную весеннюю ночь.
Виктор видел и не видел лица товарищей — небывало задумчивых и тихих: и Шервашидзе, и Россинского, и Ульянова… Но эти, как темные звездочки, вспыхивающие глаза Сашко… С каким выражением глядели они на рассказчика! И голос Ге, волнующе-вкрадчивый, казалось, сам был похож на льющийся лунный свет. «Ах, как хорошо искусство, которое говорит так ясно, так понятно… — вздохнул Николай Николаевич. — Я люблю в артисте чуткость души… И музыку люблю, часто вижу ее как картину. Есть один французский вальс — легкая красивая мелодия… Когда слышу его, всегда вижу уединенную комнату, сумерки и молодую девушку. Она слышит этот вальс… Ей грустно — хочется туда, но — нельзя… А музыка все громче, все ближе поет — и все больше, больше грусть…»
Словно чудом каким — померещилось Виктору — заглянул Ге в его эскизные наброски, где была так и не написанная позже картина: задумавшаяся под унылые звуки скрипки девушка у раскрытого окна. Да что там — все, что происходило в этой комнате, что объединяло сидящих, давно уже было чудом. Когда Николай Николаевич на время смолк, многие, взглянув на него, были поражены: молодой, гибкий, огненноглазый, будто волшебной силой преображенный человек сидел перед ними, и если бы он вот сейчас начал говорить комплименты влюбленно глядящим на него из темноты девушкам — никто бы уже не улыбнулся!..
А Ге вдруг погрустнел и заговорил о таинственности ночной тишины. О тайне, какая бывает не только светла, но и трагична, и душа человека — тонко, неизведанно как — разом постигает пронзительную суть этой тайны. Ге вспомнил, как однажды в полной тишине он вышел из комнаты, где лежала его больная жена, а вернувшись, услышал ту же тишину по-другому — и понял все, и подбежал к кровати… «Да, да… она умерла!» — глухо повторил он.
Когда, стряхивая оцепенение, седовласый гость поднялся, чтобы откланяться, молча, преданно, не отрывая взоров, как сама признательность и нежность, окружили его опечаленные «субботницы».
Потеплело, воздух заметно отсырел. И по уже раскисшему снежку спустя несколько дней потянулась поутру молодая компания — все к тем же Бутыркам. Ге уезжал. Надо было помочь ему упаковать картину, а заодно после споров в училищной курилке еще раз посмотреть на нее… Войдя в мастерскую, увидели, что ряды стульев перед «Распятием» уже заняты молча сидящими людьми.
И вновь подходят они к картине, обходят, оглядывают со всех сторон, обсуждают вслух ее грубую и истинно «живую» живопись. И слышат, как Голубкина восторгается тоже и настойчиво требует у Николая Николаевича адрес его хутора.
Потом все расходятся и остается человек шесть — самых дотошных. В ответ на расспросы о технике «новой» живописи, лишенной былой черноты, Ге советует им познакомиться сначала с ее теорией. Говоря о «спектральном анализе», о «дополнительной гамме», выхватывает какую-то книгу, показывает чертежи и таблицы, объясняет теорию оптических цветовых явлений, без коей не понять нынешних французских колористов: «Смотрите! Смотрите! Ведь нельзя же нам в России топтаться на месте! Нельзя — без знаний этого — строить картину!»
Вносится длинный ящик, обитый изнутри материей, наверное, не одному Николаю Ульянову напомнивший гроб. Снятое с подрамника «Распятие» исчезает в нем. Раздается стук молотка — крышка забита… Скоро картина будет окончательно запрещена для показа, сам царь назовет изображенное «бойней», а Толстой увидит в запрещении картины торжество Ге. Стоя над заколоченным ящиком, они не знают, что напрасно будут, уже возмужав, надеяться встретить эту картину на какой-нибудь выставке французского Салона. Увезенное за границу «Распятие» бесследно затеряется для потомства.
Выйдя на улицу, они еще недолго видят Ге, следят за ним — шагающим через лужи под сеющимся дождем, — пока он окончательно не скрывается в тумане и толпе. И когда через три с половиной месяца придет весть, что Ге больше нет, что он внезапно «отлетел» уже навсегда — как же зазвенит в памяти необыкновенная та ночь в комнате у Фальц-Фейна!.. И горячий, молодой, задыхающийся голос послышится им:
«Лучшие вклады наших идей — в одной только любви… А то, что мы скоро уйдем… это так же верно, как и то, что не родимся снова. И для того, чтобы предстать туда сынами истины, не нужно иметь никаких кличек, имен, нужно быть просто людьми… Моя кличка „Ге“ отойдет тотчас же, как только я уйду от вас и возвращусь к Тому, от Кого произошел…»
«…Так закончилась эта великая беседа на горе Елеонской…
Чарующая красота палестинского вечера, нежные краски весенних трав и цветов, торжественным сумраком окутанные долины кругом, отдаленные горы, утопающие в зареве вечернего небосклона…»
Склонившись все над той же заветной толстой тетрадью и старательно заполняя ее страницы выписками из Фарраровой «Жизни Иисуса», Виктор Мусатов и впрямь слышит прохладный, благоухающий ветерок, веющий по долине…
«…Полная луна поднималась из-за гор и заливала серебристым светом трепещущую листву масличных деревьев…» Опять, опять — этот мучительно влекущий лунный свет. И совсем иным видится теперь, чем в детстве, в чтении отца, ночной переход Иисуса с учениками — за поток Кедрон, где был сад… с учениками, которые слишком поздно поймут, чем была для Него эта ночь, а сейчас им просто хочется спать, и Он дважды вынужден будить их, ибо «их очи отяжелели»…
Ниже своих выписок, на той же странице рисует Виктор эскиз композиции и обводит рисунок рамочкой. И намечается иллюстрация к Фаррару. Тут и гребни гор, и луна меж облаков, каменистые уступы на переднем плане, а в центре — фигура Христа. Справа от Него апостолы, а слева — наброски нескольких фигур: видимо, приближаются те, кто должен Его схватить. Наверное, ожила тут в памяти и картина Ге «Совесть», где Христа уводят в ночь легионеры, а Иуда стоит съежившись на залитой луной дороге. Собственно, «Фаррар плюс Ге» — вот и вся композиция. А что же тут будет мусатовского?..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: