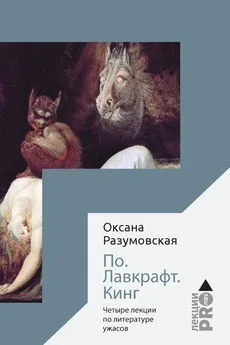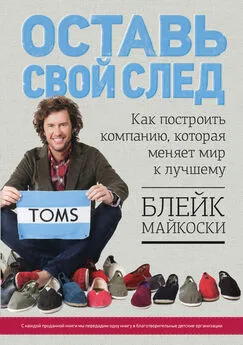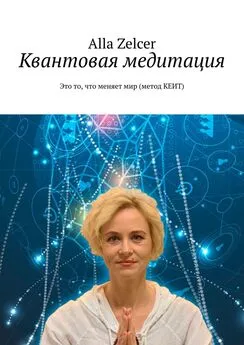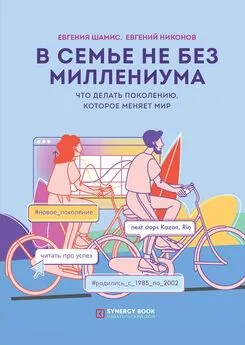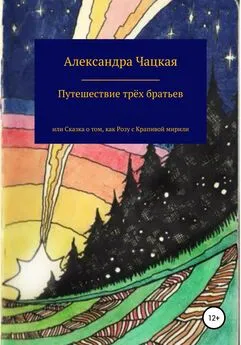Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Название:От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-12188-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир краткое содержание
От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Другой важный для становления отечественной семиотики исследователь, Николай Яковлевич Марр (1864–1934) был крупнейшим русским кавказоведом, академиком сначала императорской, а потом и советской Академии наук. На Кавказе Марр изучал не только строение местных языков, но и обычаи их употребления, можно сказаиь, был социологом языка; и он заметил целый ряд странностей в этих обычаях. Например, в некоторых аулах мужчина разговаривал с другими мужчинами словами, а с женщинами – жестами. Конечно, женщина тогда оказывалась в подчиненном положении, но подчиненное положение женщины – это пережиток. Исходя из этого, Марр и сделал вывод, что как общество бывает первобытным и развитым, так и язык тоже бывает первобытным и развитым, и язык жестов – типичный первобытный язык. Как из первобытной экономики возникает рабовладельческая, а потом феодальная и капиталистическая, на основе разделения труда, так и из первобытного языка жестов возникает звуковой язык, на основе разделения смыслов или связанных с ними прагматических решений. Первобытный человек показывал ладонь, но на следующих этапах понадобилось большее количество значений, на которые рук и ладоней не хватит. Поэтому наравне с руками пошли в ход звуки, и наравне с жестом руки появился звук руки, звук, означающий руку, но одновременно, скажем, женщину – раз с женщинами общались, показывая знаки рукой. Учение Марра сначала легко вписалось в советский марксизм, утверждавший превосходство экономического базиса над культурной надстройкой, но оно очень плохо годилось для интерпретации грамматики отдельных языков: ведь этот переход от жестов к звукам не мог быть зафиксирован ни в каких памятниках, и поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезы Марра было невозможно. Нет ни одного памятника, где «рука» звучит так же, как «женщина», и нет звуковых законов, которые бы подтверждали уж совершенно головокружительную фантазию Марра о том, что все слова всех языков произошли из первичных четырех криков бер, сал, йон, рош, в сложении с жестами, с наименованием этих жестов, и значит, друг с другом, давших все многообразие слов и смыслов. Поэтому рано или поздно от языковой теории Марра пришлось бы отказаться: после войны Сталин и сделал выбор в пользу традиционной лингвистики, руководствуясь скорее стилистическими предпочтениями: авангард окончательно был вытеснен новым имперским стилем, и авангардное языкознание терпеть никто бы не стал.
Но хотя в теории Марра фантастики больше, чем действительного исследования языка, и Марра даже из-за этих его неуместных фантазий иногда несправедливо бранят как лжеученого, хотя он был великим ученым, в ней есть несколько гениальных прозрений. Во-первых, Марр освободил слово из плена грамматики, потому что, по сути, изучал не слова, а некоторые жестово-смысловые комплексы, которые можно отождествить и со словами, и с частями слов, и с целыми предложениями, и даже с текстами, например мифами. Здесь Марр сошелся с исследователем, исходившим из совсем других предпосылок, из немецкого идеализма и имяславия, а именно, Алексеем Федоровичем Лосевым с его формулой «Миф – развернутое магическое имя». Но это соответствует и развитию современной науки о языке, доказавшей, что наши представления о «слове» внушены нам грамматикой и что для многих языков, например, японского, чукотского или полинезийских, категория «слово» вообще не годится для описания системы языка. Во-вторых, Марр поставил речь в ряд с материальным производством, доказав, что как есть прогресс человечества в создании изделий, так он есть и в создании языка. Наконец, и самое главное, Марр при всем своем авангардизме доказывал, что ничего не пропадает, что жесты живут новой жизнью в высказываниях, что рука остается в женщине, что, следовательно, высказывания (не говорим «слова», по уже названной выше причине) могут нести в себе целые мифы, сюжеты, образы, которые и живы благодаря речевому употреблению больше, чем благодаря индивидуальным впечатлениям. Только когда люди слишком полюбили свою впечатлительность, миф превратился в необязательную сказку.
Последнее достижение Марра восприняла сотрудница его института Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955), создавшая целую программу изучения художественной литературы как такой эстетизации изначальных мифологических сюжетов. Например, трагедия возникает из жертвоприношения, а комедия – из праздника урожая, поэтому в трагедии полный тупик героя и появление богов, а в комедии – избыточный смех. Но Фрейденберг идет дальше: для нее важно не просто связать литературный жанр с древним ритуалом, но понять и сам ритуал как проявление определенной стадии развития языка. Тогда жертвоприношение оказывается «поеданием», а праздник урожая – «возвращением» богов, утопией, возвращением золотого века. Поедание жертвы, рост зерна как его смерть и воскресение и другие начальные акты опыта потом были развернуты и в ритуал, и в миф, и в литературную форму, и в литературное содержание. Поэтому после трудов Фрейденберг нельзя говорить о том, что «литература произошла из мифа» или «искусство произошло из ритуала», скорее, все они – разнонаправленные ветви эволюции, произошедшие из единого первоначального опыта. И метод Фрейденберг позволяет ответить на вопросы, которые мучили историков литературы, например, почему в античной комедии есть черты утопии или почему Гесиод сочиняет и поэму по ведению хозяйства, и поэму о происхождении богов – да потому что хозяйство и есть единственное место, где боги не только присутствуют, но и сохраняют память о своем присутствии.
Фрейденберг была кузиной Б.Л. Пастернака, многолетней его собеседницей, и эта дружба родных людей духовно обогащала обоих. Конечно, творческий подход Пастернака, который видел за готовыми вещами действие искусства, так что оно представало не оформлением готовых смыслов, а энергией порождения в том числе природных вещей и состояний, был очень важен для Фрейденберг. Но и для Пастернака важно было научиться мыслить историю не как череду обстоятельств, а как постоянное возвращение человека к созиданию собственной формы, в конце концов разрешающееся формой Воскресения. И нам как раз сейчас время вернуться к истолкованию художественного произведения в семиотике.
В отечественной семиотике сложилось три основных подхода, объясняющих, как именно из опыта возникает художественное произведение. Все три исходят из того, что содержание художественного произведения не сводимо к предшествующему ему опыту, как опыту познания окружающей действительности, так и внутреннему опыту, вместе с тем мы не можем назвать какой-либо Другой источник этого содержания, кроме определенным образом переработанного опыта. Как сказал О.Э. Мандельштам: «Он опыт из лепета лепит. И лепет из опыта пьет». Значит, встает вопрос, как при сочинении художественного произведения происходит такой прыжок, превращающий итоги опыта в совершенно незнакомый, прежде не бывший смысл.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
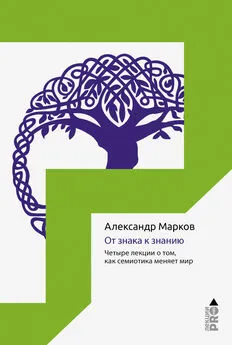
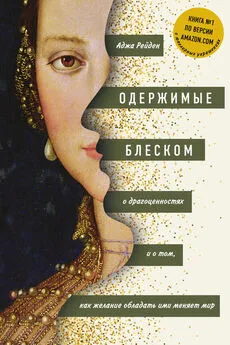
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)