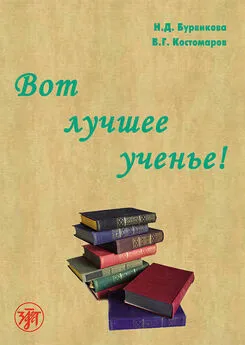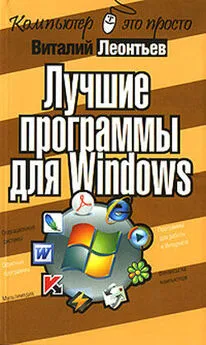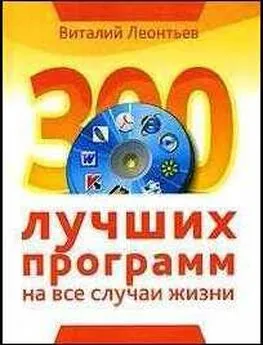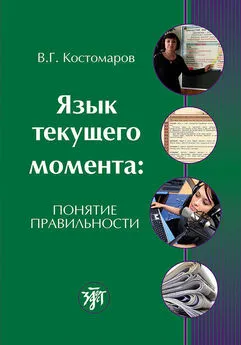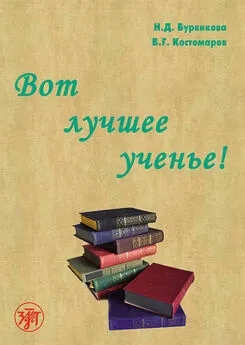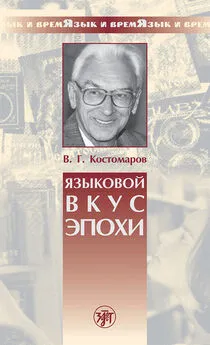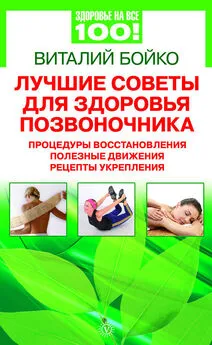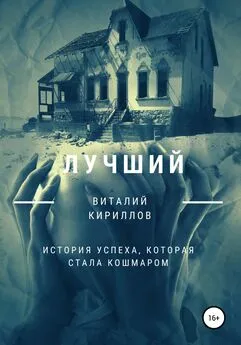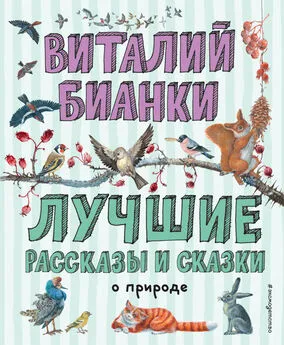Виталий Костомаров - Вот лучшее ученье!
- Название:Вот лучшее ученье!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Златоуст»
- Год:2010
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-86547-521-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Костомаров - Вот лучшее ученье! краткое содержание
Рекомендуется для широкого круга читателей.
Вот лучшее ученье! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проиллюстрируем вышесказанное отрывком из работы И. Кудровой, посвященной выяснению обстоятельств пребывания С.Я. Эфрона – мужа М.И. Цветаевой – на Лубянке:
…Не только протоколы допросов, но и воспоминания уцелевших никогда не восстановят достоверности того, что там происходило. …Как далеки от идентичности реальные диалоги, звучавшие в комнате следователя, и те, которые фиксировались на бумаге… Слишком часто эти протокольные листы… казались мне иероглифами.
Это тот случай, когда есть текст, но исчез дискурс.
А вот пример невероятной редукции, свернутости текста, содержащего все необходимое для дешифровки коммуникативного акта.
Из объяснения Левина и Кити:
– Я давно хотел спросить у вас одну вещь.
Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.
– Пожалуйста, спросите.
– Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, ч, н, и, т? Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?»
Читатель сам восстановит в памяти эту своеобразную переписку героев, кончившуюся обоюдным объяснением в любви. Дискурсом же тут является сам процесс взаимного притяжения героев в авторском повествовании.
Думается, что то, что называется у М.Я. Дымарского текстом и дискурсом, иллюстрируется вышеприведенными примерами достаточно ясно.
Почему же все-таки разграничение этих двух понятий проводится робко и не всегда последовательно? Отсутствие определения понятия «текст» заставило исследователей обратиться к понятию «дискурс» (поначалу дискурс был синонимом диалога, а диалог – это не одно предложение, следовательно, с помощью дискурса можно было попытаться обозначить нечто сверхфразовое). Многозначность термина «дискурс», развившаяся в лингвистике текста в последние годы, это допускала.
Как принято, обратимся к народной мудрости. Процессуальность, по сути дела, отражают следующие пословицы:
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
Его слова на воде писаны.
Плевка не перехватишь, слова не воротишь.
То же бы ты слово, да не так бы ты молвил.
Результативности посвящена одна:
Что написано пером, не вырубишь топором.
Как видно из пословиц, русский менталитет всегда уделял большое внимание именно процессу создания словесного результата. И именно поэтому еще нельзя утверждать, что текст и дискурс – синонимы. Текст отвечает на вопрос: что создано, дискурс – как создано речевое произведение, как шел сам процесс и, предвосхищая последующее изложение, как пойдет процесс восприятия текста адресатом.
А теперь обратимся к режиссерской мудрости. Тот, кто ставит на театральных подмостках пьесу (текст), создает дискурс (спектакль). Вот что писал известный режиссер А. Эфрос, размышляя о сценических проблемах (они удивительно близки нашим):
Матч транслировали прямо со стадиона, но могли бы транслировать и назавтра, записав вчерашнюю игру на пленку. Но тогда мы хотя и смотрели бы то же самое, а переживали бы уже не так. Потому что ведь и счет матча был бы известен и многие подробности также. Но даже и без этого – одно сознание, что это было вчера, а не сейчас, ослабляло бы наш интерес. И в театре все должно происходить сегодня, сейчас и на самом деле…
Ах, сколько ужасно важных вещей об искусстве можно понять, посмотрев хороший хоккейный матч.
Театр дискурсивен!
Перефразируем последнее цитируемое предложение – сколько важных вещей о тексте и дискурсе можно понять, посмотрев спектакль. Если в театре из текста (пьесы) сотворен дискурс (спектакль), он воспринимается зрителем как действие, которое происходит сегодня, сейчас, на самом деле… Можно вспомнить классический советский боевик «Чапаев». Постановщикам фильма удалось создать не текст, но дискурс – каждый повторный просмотр этого фильма неискушенным советским зрителем воспринимался как первый: это происходило не когда-то, а происходит сейчас. Вдруг Чапаев выплывет? Или это была пропаганда?
Театральный критик Б. Алперс пишет о постановке в театре имени Маяковского «Гамлета»:
Среди русских Гамлетов, ведущих свою родословную от Мочалова… были самые разнообразные, в том числе мстительные, грозные, которые приходили в мир… с карающим мечом в руках. Вместе с Самойловым на сцене появился светлый человечный Гамлет, Гамлет милосердный (3, с. 415).
Излишне говорить о том, что текст Шекспира не изменялся режиссерами на русской сцене никогда. Дискурсы же, соответствующие этому тексту, были различными.
А теперь обратимся к мудрости родительской. А. Эфрон (дочь М.И. Цветаевой) вспоминала:
Марина рассказала мне, еще не совсем четырехлетней, о последнем концерте… Паниной.
…Она была когда-то молода и прекрасна и пела так, что все теряли голову – все как один. Но время прошло… ее время прошло. Она состарилась; ушли красота, богатство, слава… только голос остался. …А она еще выступала – но слушать ее было некому, ее поколение сошло на нет, что до внуков, то они никогда не увлекаются тем же, чем деды! И вот она дает последний прощальный концерт: выходит на сцену все в той же черной шали, расплывчатая, седая, старая! В зале – только несколько последних неизменивших… Тени пришли на свидание с тенью. Время концерта давно истекло. Но она не уходит, она отказывается уходить! Песни рвутся, льются из груди – она поет! Поет одна, в пустом темном зале; мрак и голос; голос – во мраке; голос – осиливший мрак!
Увидев мое лицо, Марина осеклась, спросила:
– Ты поняла?
– Поняла, – ответила я и засмеялась. – Старуха пела, пела, а старики все ушли и свет потушили.
– Ступай! – сказала Марина, помолчав. – Ты еще слишком мала (4, с. 58).
Как это типично! Как часто современные школьники воспринимают «упакованную коммуникацию» – текст, оставляя без внимания дискурс. А когда еще эта коммуникация «упакована» в рамки сокращенного пересказа классики, выполненного под интригующим названием «Все классические произведения из школьной программы…».
А вот история, рассказанная Л. Чуковской А. Ахматовой:
…Мы влюбились в блоковскую «Незнакомку» и упоенно читали в два голоса или по очереди:
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу.
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу.
Мы еще никогда не пили вино, не видывали пьяниц с глазами кроликов, не знали ресторана – не понимали и того, что стоит за этими стихами, но любили их до упоения (3, с. 89–90).
Проницательная Анна Ахматова определила это состояние подруг как встречу с новой гармонией (с дискурсом в нашем понимании). Если бы современная средняя школа достигала хотя бы подобных результатов!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: