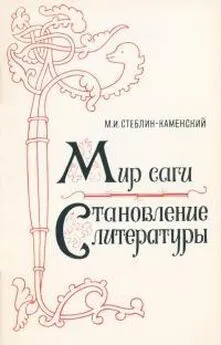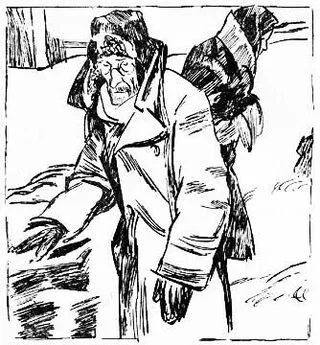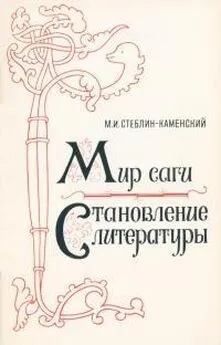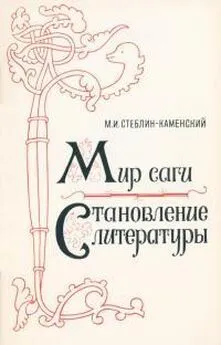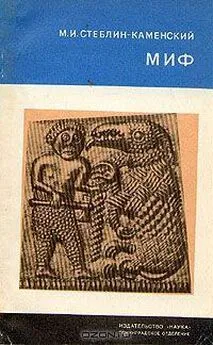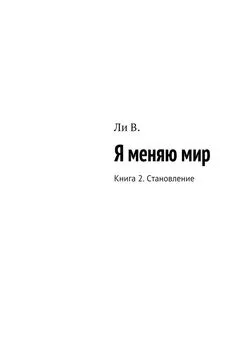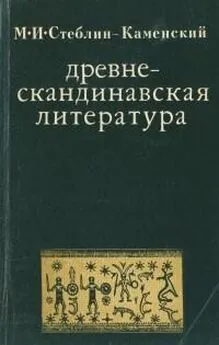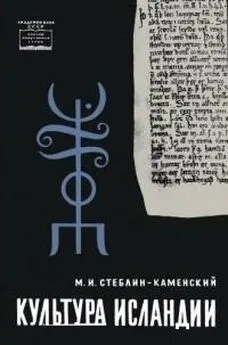Михаил Стеблин-Каменский - Мир саги. Становление литературы
- Название:Мир саги. Становление литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1984
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Стеблин-Каменский - Мир саги. Становление литературы краткое содержание
Мир саги. Становление литературы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Некоторые из компонентов саг об исландцах, а именно так называемые пряди (þættir) об исландцах (они образуют как бы такие же части саги, как пряди образуют части веревки), т. е. рассказы об исландцах в Норвегии, обычно печатаются в современных изданиях как самостоятельные произведения. Совершенно такие же пряди об исландцах есть и в сагах о королях. Однако значение слова прядь, как и значение слова сага, в древнеисландской литературе очень нечетко. Нередко то же самое называется то сага, то прядь, или часть саги, но встречаются также и другие названия части саги (frásogn, æfintýr, hluti), такие же нечеткие. Другими словами, прядь не осознавалась как особая литературная форма и не была четко отграничена от саги [25].
В сущности, единство отдельной саги об исландцах часто не многим больше, чем единство всех этих саг вместе. Господствующая в современной науке методика исследования отдельных саг об исландцах ведет к преувеличению того, чем они отличаются друг от друга, и к затушевыванию того, что их объединяет. А объединяет их не только композиционная незамкнутость отдельных саг, но и общее содержание всех саг вместе: то же общество, та же эпоха, такие же распри и даже в некоторой мере те же персонажи: ведь в сагах об исландцах есть персонажи, которые не только действуют больше, чем в одной саге, но и трактуются в разных сагах совершенно одинаково, как, например, Снорри Годи, Греттир или Гест Мудрый. При этом, однако, хотя в отдельных случаях в разных сагах об исландцах и встречаются разные трактовки тех же событий (например, в Саге о Вига-Глуме и Саге о жителях Долины Дымов или в Саге о жителях Озерной Долины и Саге о Финнбоги), ни в одном случае разные саги об исландцах не представляют собой в целом разных попыток трактовать тот же сюжет, как могло бы быть, если бы события эпохи саг были каким-то традиционным литературным материалом, а не образовывали бы единого содержания всех саг об исландцах в совокупности. Но если рассматривать эти саги как образующие в совокупности единое литературное произведение, то тогда по широте охвата действительности они, конечно, — величайшее из произведений мировой литературы, своего рода человеческая комедия, в которой действуют или упоминаются чуть ли не все исландцы двух первых веков существования исландского общества [26]. Незамкнутость формы отдельных саг об исландцах проявляется, наконец, и в том, что у них нет заглавий в современном смысле этого слова. В современном понимании заглавие — это имя собственное, придуманное автором и образующее органическую часть произведения. Заглавие саг — нечто совсем другое. В устной традиции заглавия, конечно, вовсе не обязательно предпосылались саге, а употреблялись там, где надо было назвать ту или иную сагу. Становление заглавия в собственном смысле слова начинается в письменной традиции с того, что становится обязательным предпосылать его тексту произведения. Характерно, однако, что в рукописях саг заглавия не всегда предпосылаются тексту, а в ряде случаев всплывают в конце саги (здесь я кончаю сагу о Сожженном Ньяле, здесь кончается сага о Курином Торире, здесь кончается сага о Глуме). В устной традиции заглавия возникали, по-видимому, совершенно так же, как в определенной ситуации возникают определенные словосочетания, потенциально существовавшие в языке и раньше. Как дом, который принадлежит, например, Эгилю, не может не быть назван домом Эгиля, так и сага, в которой всего больше говорится об Эгиле, не может не быть названной сагой об Эгиле. Словосочетание сага об Эгиле существовало потенциально и до того, как оно было впервые употреблено, и оно в такой же мере не подразумевает сознательного авторства, как и любые другие словосочетания в языке, и в такой же мере оно не имя собственное: оно обозначает, или коннотирует, только то, что значат составляющие его слова (сага и Эгиль), а не называет, или денотирует, что-то неким условным именем.
В сагах об исландцах как будто есть общее с реалистическим романом и в том отношении, что в них тоже изображаются частные лица в их частной жизни. Однако частные лица реалистического романа — это совсем не то, что частные лица саг об исландцах. Господствующая роль частных лиц в литературных произведениях — одно из крупнейших достижений нового времени. В средневековой литературе частных лиц вообще не было. Персонажи средневековых литературных произведений — либо исторические лица, т. е. какой-то определенный король или полководец, и т. п., либо олицетворение какого-то положения в обществе, т. е. вообще король, вообще монах, вообще купец и т. п. Так, в сагах о древних временах (ближайшего исландского аналога самого распространенного средневекового жанра — рыцарского романа) персонажи подчас носят имена тех или иных исторических лиц, но чаще они королевский сын вообще, викинг вообще, берсерк вообще и т. п. Таким образом, в средневековой литературе индивидуализация и обобщение исключают друг друга. Если персонаж индивидуален, то он исторический персонаж, или правда в собственном смысле слова, а не обобщение. Если же персонаж — результат обобщения, то он лишен индивидуальности, он король вообще и т. п. Между тем в литературе нового времени стала возможной индивидуализация, которая в то же время и обобщение. Частные лица реалистического романа и есть сочетание индивидуализации и обобщения. Основные предпосылки их появления в литературе это, с одной стороны, возможность правды, которая осознается как вымысел, т. е. художественной правды, а с другой стороны, неизвестный для средневекового человека интерес к человеческой личности самой по себе.
Персонажи саг об исландцах отличаются от частных лиц реалистического романа прежде всего тем, что они синкретическая, а не художественная правда. Следовательно, в представлении людей того времени они были правда в собственном смысле слова, а не обобщение, не типы. Другое дело, что в силу наличествовавшего в них скрытого вымысла они могли быть фактически обобщением, хотя и не осознававшимся. Поэтому в сагах об исландцах все же есть типы: свирепые берсерки, интриганы и злодеи, сеющие раздор, женщины, побуждающие к мести, колдуньи и т. д. Как правило, однако, они второстепенные персонажи, и среди лиц, действующих в сагах, ничтожное меньшинство. Основные же персонажи в сагах об исландцах, как, например, Эгиль, Храфнкель, Ньяль или Снорри Годи, обычно сложнее, индивидуальнее и жизненно правдивее, чем любые литературные типы. В обществе, в котором не было государства и, следовательно, королей, полководцев и тому подобных лиц, содержанием произведений, представлявших собой синкретическую правду, должны были, естественно, стать не общегосударственные дела или деяния правителей государства, а то, что было эквивалентом этого в древнеисландском обществе, а именно распри между отдельными членами этого общества. Таким образом, персонажи саг об исландцах частные лица не в большей мере, чем короли, полководцы и другие исторические персонажи средневековой литературы, или, вернее, они одновременно и частные, и исторические лица, гармоническое сочетание того и другого, возможное только в обществе, где нет деления на частное и государственное, поскольку нет государства [27].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: