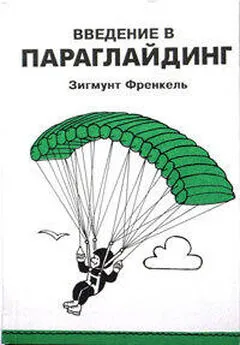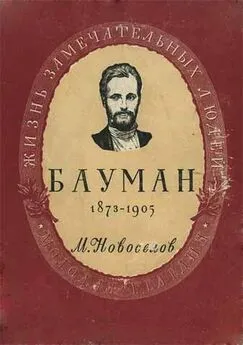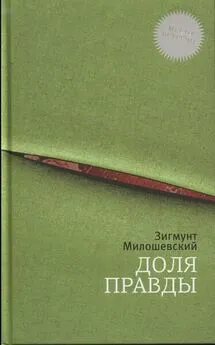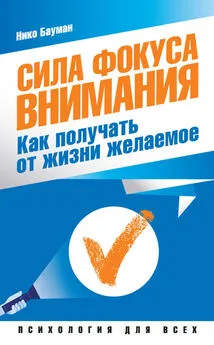Зигмунт Бауман - Текучая современность
- Название:Текучая современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-469-00034-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зигмунт Бауман - Текучая современность краткое содержание
«Текучая современность» подводит итог анализа, проведенного в двух предыдущих книгах Баумана «Глобализация: последствия для людей» и «В поисках политики».
Текучая современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет никакого ухода от проблемы наведения «политических мостов» с миром. И так как этот «мост» не может быть «укомплектован» ни чем, кроме государственных служащих, вопрос о том, как, если это вообще возможно, использовать их, чтобы облегчить прохождение философии в мир, не исчезнет и на него нужно дать ответ. И не уйти от жестокого факта, что — по крайней мере в начале, пока брешь между истиной философии и действительностью мира остается незаполненной — государство принимает форму тирании. Тирания (Кожев не преклонен в том, что эта форма управления может быть определена в нравственно нейтральных терминах) имеет место всякий раз, когда
часть граждан (неважно, большинство это или меньшинство) навязывает всем другим гражданам свои собственные идеи и действия, направляемые властью, которые эта часть людей спонтанно признает, но которые им не удалось заставить признать других людей; и когда эта часть граждан навязывает их другим «не достигая соглашения» с ними, не пытаясь достичь некоторого «компромисса» с ними и не принимая во внимание их идеи и желания (определенные другой властью, которую спонтанно признают эти другие).
Поскольку именно игнорирование идей и желаний «других» делает тиранию тиранической, задача состоит в том, чтобы разорвать схизмогенную цепь (как сказал бы Грегори Бейтсон) высокомерного пренебрежения, с одной стороны, и приглушенного инакомыслия — с другой, и найти то основание, на котором обе стороны могут встретиться и участвовать в плодотворной беседе. Это основание (здесь Кожев и Стросс были одного мнения) можно предложить только с помощью философской истины, касающейся — так как она обязательно это делает — вещей вечных, а также абсолютно и универсально достоверных. Все другие основания, предлагаемые «простыми убеждениями», могут служить лишь полем битвы, но не конференцзалом. Кожев полагал, что это может быть сделано, но Стросс так не считал: «Я не верю в возможность беседы Сократа с народом». Кто бы ни участвовал в такой беседе, — он не философ, а «некий риторик», желающий не столько проложить путь, по которому истина может прийти к людям, сколько добиться повиновения тому, в чем, возможно, нуждаются власти, или тому, что они будут приказывать. Философы едва ли могут сделать большее, чем попытаться дать совет риторикам, и вероятность их успеха неизбежно будет минимальной. Перспективы примирения и слияния философии и общества весьма туманны [19]. Стросс и Кожев соглашаются в том, что универсальные ценности и исторически сформированная реальность социальной жизни связаны между собой политикой; пишущие изнутри «тяжелой современности», они приняли как очевидное, что политика пересекается с действиями государства. И поэтому из этого без дальнейших доказательств следовало, что дилемма, с которой столкнулись философы, свелась к простому выбору между «принятием» и «неприятием»: либо использование этой связи, несмотря на все риски, предполагаемые любой такой попыткой, либо (ради чистоты мысли) очищение от нее и поддержание дистанции от власти и власть предержащих. Другими словами, это был выбор между истиной, обязательно остающейся бессильной, и могуществом, непременно изменяющим истине.
«Тяжелая современность» была, в конце концов, эпохой формирования действительности на манер архитектуры или садоводства; действительность, послушная вердиктам разума, должна была быть «построена» при строгом контроле качества и согласно строгим процедурным правилам и прежде всего спроектирована до того, как начнутся строительные работы. Это была эра чертежных досок и проектов — не столько для нанесения на карту социальной территории, сколько для подъема территории до уровня ясности и логики, которым могут похвастаться только карты. Это была эпоха, которая надеялась узаконить разум в действительности, изменить ставки так, чтобы вызвать рациональное поведение, сделав все неразумные действия слишком дорогостоящими, чтобы намереваться их предпринять. По законодательным соображениям, пренебрежение законодателями и правоохранительными органами, очевидно, не было правильным выбором. Проблема взаимоотношений с государством, будь то сотрудничество или противостояние, была его формирующей дилеммой; в действительности — вопрос жизни и смерти.
Критика жизненной политики
Когда больше нет надежды на государство, обещающее или желающее действовать в качестве полномочного представителя разума и архитектора рационального общества, когда чертежные доски в офисах хорошего общества постепенно сворачиваются и когда пестрая толпа консультантов, переводчиков и брокеров берет на себя выполнение большинства задач, ранее предназначавшихся законодателям, не удивительно, что критические теоретики, желающие способствовать освобождению, оплакивают тяжелую утрату. Речь идет не просто о разрушении предполагаемого средства и одновременно цели освободительной борьбы; центральная, основополагающая дилемма критической теории, сама ось, вокруг которой вращался критический дискурс, вряд ли переживет ее кончину. Критический дискурс, как многие чувствуют, может оказаться беспредметным. И многие могут цепляться и действительно отчаянно цепляются за ортодоксальную стратегию критического анализа лишь для того, чтобы непреднамеренно подтвердить, что этот дискурс действительно лишен реального предмета, поскольку эти диагнозы все в большей степени не связаны с текущими реалиями и гипотезы становятся все более расплывчатыми; многие настаивают на продолжении старых сражений, в которых они приобрели мастерство, и предпочитают их продолжение изменению знакомого и испытанного поля битвы на новую, пока еще не полностью исследованную территорию, во многих отношениях неизвестную область.
Однако перспективы критической теории (не говоря уже о спросе на нее) не связаны с теперь уже уходящими формам жизни, таким же образом, как сохранившееся самосознание критических теоретиков связано с формами, навыками и программами, разработанными в ходе противостояния им. Устарело лишь значение, приписанное эмансипации при прошлых, но уже не существующих условиях, а не сама задача освобождения. Теперь речь идет о чем–то другом. Эта новая общественная повестка дня, которая все еще ждет внимания со стороны критически настроенной общественной политики, появляется вместе с «расплавленной» версией современных условий человеческой жизни, — и в особенности вслед за «индивидуализацией» жизненных задач, являющейся результатом этих условий.
Эта новая повестка дня возникает вследствие обсужденной выше бреши между индивидуальностью де–юре и де–факто либо — если угодно — предписанной законом «негативной свободой» и в значительной степени отсутствующей или, во всяком случае, отнюдь не повсеместно доступной, «позитивной свободой», то есть подлинной возможностью отстаивать свои права. Новые условия мало чем отличаются от тех, которые, согласно Библии, привели к восстанию евреев и их массовому исходу из Египта. «Фараон приказал надзирателям и их десятникам не снабжать людей соломой, используемой при производстве кирпичей: “Пусть они идут и собирают солому, но смотрите, чтобы они производили то же самое число кирпичей, что и прежде”». Когда десятники указали, что нельзя эффективно делать кирпичи, если должным образом не снабдить людей соломой, и обвинили фараона в том, что он требует невозможного, он полностью перенес на них ответственность за неудачу: «Вы ленивы, вы ленивы». Сегодня нет никаких фараонов, приказывающих десятникам пороть ленивых. Даже порка была превращена в работу типа «сделай сам» и заменена самобичеванием. Но современные власти все равно освободили себя от «поставки соломы», и «производителям кирпичей» сказано, что исключительно их собственная лень препятствует им выполнять работу должным образом, — и прежде всего, выполнять ее для их собственного удовлетворения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: