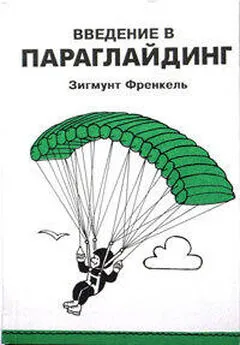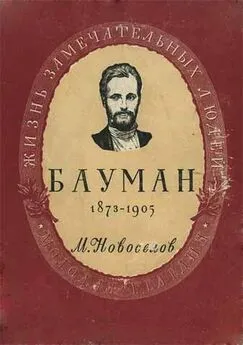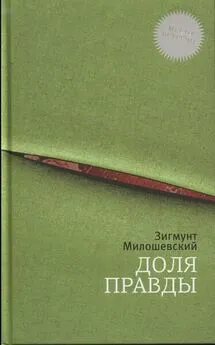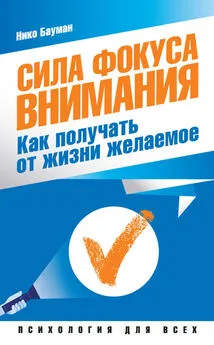Зигмунт Бауман - Текучая современность
- Название:Текучая современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-469-00034-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зигмунт Бауман - Текучая современность краткое содержание
«Текучая современность» подводит итог анализа, проведенного в двух предыдущих книгах Баумана «Глобализация: последствия для людей» и «В поисках политики».
Текучая современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда ненадежность становится перманентной и считается таковой, «жизнь в мире» все меньше воспринимается как связанная определенными законами и соблюдающая законы, логическая, последовательная и кумулятивная череда действий и становится больше похожа на игру, в которой мир внешний — один из игроков и он ведет себя так же, как и все игроки, не раскрывая своих карт. Как и в любой другой игре, планы на будущее имеют тенденцию становиться временными и изменчивыми, простираясь не далее следующих нескольких шагов.
Когда на горизонте человеческих усилий не вырисовывается никакого государства наивысшего совершенства, когда нет веры в гарантированную эффективность любого усилия, идея «тотального» порядка, который должен быть воздвигнут этаж за этажом в результате длительных, последовательных, подчиняющихся цели действий, имеет мало смысла. Чем меньше человек держится за будущее, тем меньше «будущего» может быть учтено при планировании. Отрезки времени, называемые «будущим», становятся короче, и время жизни человека в целом поделено на эпизоды, которые можно рассматривать «по одному». Непрерывность больше не является признаком развития. Некогда кумулятивный и долгосрочный характер прогресса уступает место требованиям, обращенным к каждому последовательному эпизоду отдельно: любой из них необходимо понять и полностью использовать прежде, чем он завершится и начнется следующий. В жизни, управляемой по принципу гибкости, жизненные стратегии и планы могут быть лишь краткосрочными.
Жак Аттали недавно предположил, что в понимании будущего и нашей роли в нем теперь начинает доминировать, пусть даже скрыто, образ лабиринта; этот образ становится основным зеркалом, в котором наша цивилизация в ее современной стадии разглядывает свой облик. Лабиринт как аллегория человеческой жизни был сообщением, переданным кочевниками оседлым поселенцам. Прошли тысячелетия, и поселенцам наконец хватило уверенности в себе и храбрости, чтобы принять вызов судьбы, подобной лабиринту. «Во всех европейских языках, — указывает Аттали, — слово “лабиринт” стало синонимом искусственной сложности, бесполезной секретности, извилистой системы, непроницаемого густого тумана. “Ясность” же стала синонимом логики».
Поселенцы приступили к созданию прозрачных стен, правильно и четко расчерченных обходных ходов, хорошо освещенных коридоров. Они также создали путеводители и ясные, однозначные инструкции для всех будущих странников с указанием тех поворотов, которые нужно сделать, и тех, что необходимо избегать. Они делали все это лишь затем, чтобы в конце обнаружить, что лабиринт прочно стоит на своем месте; во всяком случае, лабиринт стал еще более предательским и сложным вследствие путаницы перекрещивающихся следов, какофонии команд и постоянного приращения новых извилистых проходов в дополнение к уже пройденным и новых тупиков в добавок к тем, на которые уже наткнулись. Поселенцы стали «невольными кочевниками», запоздало вспоминающими сообщение, полученное еще в начале их исторического путешествия, и отчаянно пытающимися вновь понять его забытое содержание, которое — как они подозревали — вполне может передать им «мудрость, необходимую для их будущего». Опять лабиринт становится главной метафорой человеческой жизни, — и он обозначает «непонятное место, где расположение дорог может не подчиняться никаким законам. В лабиринте правят случайность и неожиданность, что знаменует собой поражение Чистого Разума».
В бескомпромиссно лабиринтообразном мире человеческие усилия, как и вся остальная человеческая жизнь, разделены на изолированные эпизоды. И подобно любым другим действия, совершаемым людьми, цель удержания курса движения близко к намеченному постоянно ускользает и, возможно, недостижима. Работа сместилась из универсума построения порядка и контроля над будущим в область игры; рабочие действия становятся все более похожими на стратегию игрока, который ставит перед собой умеренно краткосрочные цели, простирающиеся не далее, чем на один или два шага вперед. Имеют значение именно прямые результаты каждого шага; эти результаты должны быть пригодны для непосредственного использования. Предполагается, что мир полон мостов, находящихся слишком далеко; о пересечении таких мостов люди не думают, пока не подойдут к ним, и это вряд ли случится скоро. Все препятствия нужно преодолевать по очереди; жизнь — это последовательность эпизодов, каждый из которых нужно обдумывать отдельно, поскольку любой имеет свое собственное соотношение выгод и потерь. Жизненные пути не становятся более прямыми по мере того, как мы их проходим, и очередной правильно сделанный поворот — не гарантия того, что в будущем мы успешно выберем нужные повороты.
Следовательно, изменился характер работы. В большинстве случаев это одноразовый акт: хитрый прием мастера, ловкача, нацеленный на близкие по времени результаты и вдохновленный и ограниченный ими, в большей степени сформированный, чем формирующий, в большей степени результат погони за удачей, чем продукт планирования. Он имеет странное сходство со знаменитым киберкротом, который знал, как двигаться в поисках электрической розетки, чтобы подключиться для пополнения энергии, израсходованной на движение.
Возможно, термин «поверхностный» был бы более подходящим, чтобы передать изменившийся характер работы, отделенной от грандиозного замысла миссии всего человечества и не менее грандиозного замысла жизненного призвания человека. Лишенная своих эсхатологических атрибутов и отрезанная от своих метафизических корней, работа потеряла центральность, которая приписывалась ей в галактике ценностей, доминирующих в эпоху твердой современности и тяжелого капитализма. Работа больше не может являться надежной осью, вокруг которой группируются самоопределения, идентичности и жизненные планы. Она также не может служить бесспорной этической основой общества или этической осью индивидуальной жизни.
Вместо этого работа наряду с другими видами жизнедеятельности приобрела главным образом эстетический смысл. Она, как ожидается, должна удовлетворять сама по себе, а не измеряться реальными или предполагаемыми плодами, которые она приносит нашим ближним или нации и стране, не говоря уже о счастье будущих поколений. Только немногие люди — и к тому же лишь изредка — могут требовать привилегий, престижа или почестей, указывая на важность и общественную полезность выполняемой ими работы. Едва ли кто–нибудь ожидает, что работа «облагородит» ее исполнителей, сделает их «лучшими людьми», и по этой причине она редко вызывает восхищение и заслуживает похвалы. Вместо этого она измеряется и оценивается по способности быть интересной и занимательной, удовлетворяющей не столько этическое, прометеево призвание производителя и создателя, сколько эстетические потребности и желания потребителя, искателя острых ощущений и коллекционера переживаний.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: