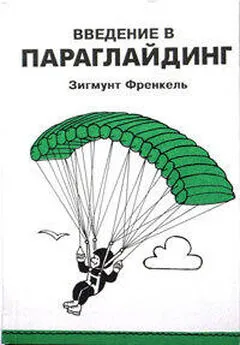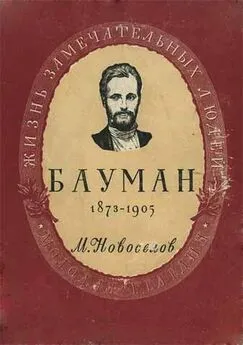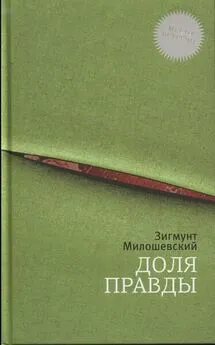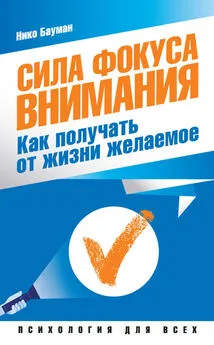Зигмунт Бауман - Текучая современность
- Название:Текучая современность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-469-00034-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зигмунт Бауман - Текучая современность краткое содержание
«Текучая современность» подводит итог анализа, проведенного в двух предыдущих книгах Баумана «Глобализация: последствия для людей» и «В поисках политики».
Текучая современность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тело и сообщество — последние защитные посты на пустеющем поле битвы, где война за уверенность, стабильность и безопасность ведется ежедневно с небольшими, если таковые вообще имеются, передышками. Теперь они должны решать задачи, некогда распределенные между многими бастионами и фортами. Теперь от них зависит больше, чем они способны выдержать, и поэтому они скорее будут углублять, а не смягчать опасения, побудившие ищущих безопасности бежать к ним, чтобы укрыться.
Новое одиночество тела и сообщества — результат широкого набора конструктивных изменений, относящихся к категории текучей современности. Одно из изменений в этом наборе имеет, однако, особую важность: отказ государства от всех главных аксессуаров роли основного (возможно, даже монопольного) поставщика уверенности и безопасности и логически вытекающее из этого отказа поддерживать стремление своих граждан к уверенности/безопасности.
После национального государства
В современную эпоху нация была «еще одним лицом» государства и основным орудием в его претензиях на верховную власть над территорией и ее населением. Доверие к нации и ее привлекательность как гарантии безопасности и долговечности в значительной мере были основаны на тесной связи с государством и — через государство — с действиями, нацеленными на достижение уверенности и безопасности граждан на длительной, заслуживающей доверия, коллективно обеспеченной основе. В новых условиях едва ли можно что–то получить от тесных связей нации с государством. Государство не может ожидать многого от мобилизующего потенциала нации, в котором само все меньше нуждается по мере того, как массовые армии, состоящие из призывников, сплоченных лихорадочно укрепляемым патриотическим безумием, заменяются элитными и бесстрастными профессиональными высокотехнологичными подразделениями, в то время как богатство страны измеряется не столько качеством, количеством и моральным состоянием ее рабочей силы, сколько привлекательностью страны для хладнокровных наемных сил мирового капитала.
В государстве, что больше не является безопасным мостом, ведущим за пределы индивидуальной смертности, призыв жертвовать индивидуальным благополучием, не говоря уже об индивидуальной жизни, ради сохранения или бессмертной славы государства кажется пустым и все более странным, если не смешным. Многовековой «роман» нации с государством приближается к концу; но речь идет не столько о разводе, сколько о замене основанного на безоговорочной верности брачного союза договоренностью о «проживании вместе». Партнеры теперь свободны вести поиски в других местах и вступать в иные союзы; их партнерство — это больше не обязательный паттерн надлежащего и приемлемого поведения. Мы можем сказать, что нация, обычно использовавшаяся как замена отсутствующей общности интересов в эру Gesellschaft , теперь возвращается к оставленной позади Gemeinschaft в поиске образца для подражания, по которому она будет моделировать себя. Институционные подпорки, способные скреплять нацию, все больше представляются как работа типа «Сделай сам». Именно мечты об уверенности и безопасности, а не их прозаичное и однообразное предоставление должны побудить беззащитных людей собираться под крыльями нации в погоне за упрямо неуловимой безопасностью.
По–видимому, нет никакой надежды на государственные учреждения, призванные обеспечивать уверенность и безопасность. Свобода государственной политики беспрестанно разрушается новыми глобальными силами, имеющими в арсенале ужасное оружие экстерриториальности, скорости передвижения и способности к уклонению/бегству; возмездие за нарушение новых глобальных правил бывает быстрым и беспощадным. Действительно, отказ вести игру по этим новым глобальным правилам — наиболее жестоко наказуемое преступление, совершения которого власти государства, привязанные к земле их собственным территориально определенным суверенитетом, должны опасаться и избегать любой ценой.
Чаще всего это наказание является экономическим. Непокорным правительствам, обвиняемым в протекционистской политике или щедрых общественных ассигнованиях для «экономически избыточных» секторов их населения и в нежелании оставить страну на милость «мировых финансовых рынков» и «мировой свободной торговли», отказывают в займах или сокращении их долгов; местные валюты делают глобальными прокаженными и способствуют их обесцениванию; курс местных акций резко падает на мировых биржах; страну окружают экономическими санкциями и приказывают прошлым и будущим торговым партнерам относиться к ней как к глобальному изгою. Глобальные инвесторы, желая сократить ожидаемые убытки, упаковывают вещи и уводят свои активы, поручая местным властям расчищать развалины и вытаскивать жертвы из еще большей нищеты.
Однако иногда наказание не ограничивается «экономическими мерами». Особенно упрямым правительствам (но не слишком сильным, чтобы сопротивляться долгое время) дают образцовый урок, предназначенный для предупреждения и запугивания их потенциальных подражателей. Если ежедневная, рутинная демонстрация превосходства глобальных сил оказалась недостаточной, чтобы вынудить государство увидеть основания для сотрудничества с новым «мировым порядком», используют войска: превосходства скорости над медлительностью, способности убегать — над необходимостью быть связанным какими–либо обязательствами, превосходство экстерриториальности над определенным местоположением могут впечатляюще подтверждаться, на сей раз с помощью вооруженных сил, специализирующихся на тактике «Наноси удар и убегай» и строгом разделении «жизней, которые необходимо спасти», и жизней, не достойных спасения.
Вопрос о том, был ли способ ведения войны против Югославии правильным и подходящим как нравственное действие, остается открытым. Тем не менее эта война имела смысл как «продвижение мирового экономического порядка неполитическими средствами». Выбранная нападавшими стратегия хорошо работала как впечатляющая демонстрация новой глобальной иерархии и новых правил игры, которые поддерживают ее. Если бы не тысячи весьма реальных «человеческих потерь» и не страна, оставшаяся в руинах и лишенная средств к существованию и способности к самовосстановлению на много лет вперед, можно было бы поддаться искушению описать эту войну как своего рода «символическую»; данная война, ее стратегия и тактика были (осознанно или неосознанно) символом возникающих силовых отношений. Это средство действительно было сообщением.
Как преподаватель социологии я из года в год повторял студентам стандартную версию «истории цивилизации», которая отмечена постепенным, но непрекращающимся повышением оседлости и окончательной победой людей, ведущих оседлую жизнь, над кочевниками; это предполагало без дальнейших доказательств, что побежденные кочевники были, по своей сути, регрессивной и противодействующей цивилизации силой. Джим Маклафлин недавно раскрыл значение этой победы, описав в общих чертах краткую историю обращения оседлого населения с «кочевниками» в пределах современной цивилизации [14]. Кочевой образ жизни, указывает он, рассматривался как «характеристика “варварских” и слаборазвитых обществ». Кочевники определялись как первобытные люди, и начиная с Гуго Гроция проводилась параллель между «первобытным» и «диким» (то есть грубым, необузданным, неокультуренным, нецивилизованным): «создание законов, культурный прогресс и развитие цивилизации тесно связаны с эволюцией и усовершенствованием отношений между человеком и землей во времени и пространстве». Короче говоря, прогресс отождествлялся с отказом от кочевого образа жизни в пользу оседлого. Все это, конечно, происходило во времена тяжелой современности, когда доминирование подразумевало прямое столкновение и означало завоевание территории, аннексию и колонизацию. Основатель и главный теоретик «диффузионизма» (точки зрения на историю, некогда весьма популярной в столицах империй) Фридрих Ратцел, проповедник «прав сильнейших», которые, как он полагал, были нравственно выше и неотвратимы ввиду исключительности духа цивилизации и распространенности пассивной имитации, точно ухватил настроение времени, когда на пороге века колонизации писал, что:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: