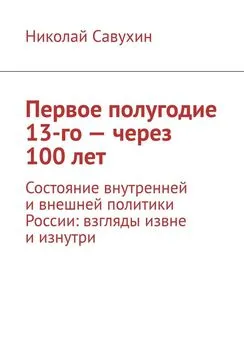Александр Бух - Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии
- Название:Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0333-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бух - Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии краткое содержание
Исследование не ограничивается частными вопросами русско-японских отношений, поскольку тематизация отношений между национальной идентичностью и внешней политикой требует критического анализа основ современной теории международных отношений. Таким образом, книга адресована не только специалистам по вопросам русско-японских отношений, но и широкому кругу ученых в области международных отношений.
Александр Бух – доцент Высшей школы гуманитарных и социальных наук при университете Цукуба (Япония). Выпускник Токийского университета (магистерская степень) и Лондонской школы экономики (докторская степень в области международных отношений).
Япония. Национальная идентичность и внешняя политика. Россия как Другое Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Левый взгляд: мир, демократия, невооруженный нейтралитет
После обретения независимости правящие консервативные элиты взялись исправлять «ошибки оккупации» (например, восстановили государственный контроль над школьной программой), при этом продолжая строить «свободную и демократическую» Японию, как того хотели американские оккупационные власти (см., например, речь премьер-министра Йосиды перед парламентариями 12 октября 1951 года). Поскольку в лагере консерваторов собрались представители самых разных направлений, «советский Другой» стал служить различным – порой противоречивым – целям в нарративе об имперском прошлом Японии. Однако какой бы аспект «советского Другого» ни подчеркивался, он постоянно служил тем фоном, на котором строилась и определялась политическая нормальность послевоенной Японии.
«Авторитарный» Советский Союз, где «нет свободы слова» и у власти стоит «государственный национализм», определенным кругам консерваторов давал возможность сравнивать имперскую Японию с СССР и таким образом подчеркивать, что после войны Япония порвала со своим прошлым. В этом нарративе упор делался на «свободную» и «демократическую» Японию, сопоставляемую с ее собственным «ненормальным» прошлым, которое уподоблялось характерным для Советского Союза «авторитаризму» и «национализму» (Nakasone 1954: 1–38). Для других консерваторов, многие из которых входили в политический истеблишмент и до 1945 года, теплые воспоминания об имперском прошлом были неотъемлемой частью понимания послевоенной идентичности Японии. Коммунистический Советский Союз (как и коммунистический Китай) давал возможность уберечь имперскую историю Японии от негативного нарратива левых, не скупившихся на критику недавней истории Японии и обвинения в авторитаризме, милитаризме и империализме. Этот тип превращения СССР в Другого Японии наиболее ярко проявился в борьбе вокруг школьных учебников истории, составлением которых занимались в основном историки с левыми убеждениями. В первой послевоенной битве за образование, имевшей место в середине 1950-х, Специальный комитет консервативной Демократической партии по проблеме учебников заявил об острой необходимости пересмотреть учебники по истории и историческое образование в целом. Было сказано, что существующие «красные» учебники отмечены преклонением перед СССР и коммунистическим Китаем и дают ученикам чуждый для Японии взгляд на историю (Minshuto 1955).
Сложнейшей частью в борьбе консерваторов за поддержку общества было определение главных для послевоенной Японии означающих – «мира», «демократии» и «свободы». Эта борьба приняла особо острый характер в контексте военного союза Японии и США, который левые осуждали, а консерваторы считали столпом японской внешней политики. Важно отметить, что в течение двух первых послевоенных десятилетий большая часть общества не одобряла этот военный альянс. Низведенные сегодня до статуса политических маргиналов, некоммунистические левые (главным образом Социалистическая партия и множество левых беспартийных интеллектуалов) сыграли ключевую роль в формировании внутреннего общественного дискурса в годы «холодной войны» – особенно в 1950-х и 1960-х, когда японская политика в целом опиралась на двухпартийную систему с консервативным и социалистическим блоками. После политической реорганизации 1955 года Социалистическая партия Японии (СПЯ) стала крупнейшей оппозиционной партией [19], и ее критика военного альянса с США отвечала наиболее широким антивоенным настроениям. Хотя общественное мнение было подчас неустойчивым, например, в 1953 году, то есть всего через два года после заключения американо-японского Договора о безопасности, большинство респондентов (правда, с небольшим перевесом) предпочитали предлагаемый левыми невооруженный нейтралитет, а не альянс с США, который поддерживал консервативный мейнстрим (цит. по: Mendel [1961] 1971: 43).
Японские левые всегда были разобщены идеологически и политически, и немало историков японской политической мысли до сих пор пытаются разобраться в многочисленных теоретических дебатах о капитализме, революции и социализме, ослаблявших политическое влияние левой оппозиции. Однако, несмотря на идеологическую раздробленность, можно сказать, что для большинства некоммунистических левых – СССР никогда не казался укрупненным вариантом собственного «Я» [20]. Скорее, левые на свой манер участвовали в конструировании японской идентичности, в отношении которой Советский Союз неизменно оставался Другим . Путь к переменам, за которые ратовали левые, лежал через мирную и демократическую революцию, не похожую на русскую насильственную и антидемократическую революцию, приведшую к созданию СССР.
«Мир», «независимость» и «демократия» стали главными лозунгами националистически настроенных левых уже в первые послевоенные дни (Cole et al. 1966; Stockwin 1968; Oguma 2002). В рамках левого дискурса этих целей во внутренней политике можно было достичь только с наступлением социализма, а во внешней – только с отменой военного альянса с США и установлением вечного невооруженного нейтралитета. Нет нужды говорить, что главным Другим в этом дискурсе был «американский империализм», и базовая риторика, твердящая о до сих пор оккупированной Японии и ее зависимом положении, была направлена против Соединенных Штатов (Stockwin 1968: 1–20; Oguma 2002: 447–498). Поэтому неудивительно, что многие левые интеллектуалы, посетив в 1950-х и 1960-х годах Советский Союз, в розовом свете восприняли советское общество и его политику, а также состояние демократии, свобод и технического прогресса (см., например: Japan Science Council 1956).
Однако, несмотря на некоторое восхищение Советским Союзом, националистический левый дискурс, подчеркивая важность независимости Японии, не предполагал альянса с СССР и не разделял собственно коммунистической идеологии [21]. Например, Нанбара Сигеру, который одно время был президентом Токийского университета и яростно защищал позицию невооруженного нейтралитета, положительно отозвался о своем визите в СССР в 1955 году, однако в итоге заявил о необходимости для Японии собственного пути. По его мнению, моделью развития не могли служить ни американский, ни советский, ни китайский путь. Японии нужно было обрести полную независимость и «идти своей дорогой» к подлинной демократии, то есть к свободе и уважению, распространяющемуся на всех без исключения (Nanbara 1955: 68–73).
Платформа Социалистической партии, возникшей в результате компромиссного слияния левых и правых социалистических партий в 1954–1955 годах, отражала сильное недоверие, которое испытывали к коммунизму видные члены СПЯ, а также борьбу с просоветской Коммунистической партией Японии (КПЯ) в борьбе за прогрессивный электорат. Таким образом, СПЯ ратовала за нейтралитет Японии, настаивая на независимости как от капиталистического, так и коммунистического лагеря (Stockwin 1968: 71–97). Социалисты, даже критикуя военную политику США в Азии и Японии, не всегда отрицали западную либеральную демократию; главной их целью было, по их словам, освобождение и развитие индивида (Seki 1955). Поэтому социалисты жестко критиковали не только правящие элиты и США, но и японских коммунистов, «международный коммунизм», а также «тоталитаризм» и «империализм» Советского Союза. Как и капитализм, возникший в результате русской революции «международный коммунизм» объявлялся уродливой, лишенной гуманизма формой марксизма, вредоносно разделяющей социалистическое и рабочее движение и препятствующей триумфу социализма во всем мире. Коммунизм объявлялся очередной формой империализма, подчиняющей индивидуума социальной группе вопреки ценностям свободы и демократии. Отвергая революционную модель ультралевых, приверженцы социалистической платформы утверждали, что социализм может «дышать» только в свободном обществе и что достичь его можно лишь демократическими средствами. Наступление социализма, в свою очередь, провозглашалось единственным способом достижения подлинной демократии (Ibid.; JSP 1955: 11–26). В отношении роли Японии в «холодной войне» прогрессисты занимали следующую позицию: альянс с США в конечном итоге приведет к разрушению Японии, поэтому необходимо отменить договор о безопасности и занять нейтралитет. В этом случае безопасность Японии гарантировалась бы либо коллективным пактом о безопасности при участии США, Японии, СССР и Китая (наподобие Локарнских соглашений), либо «армией ООН», расквартированной в Японии (Sakamoto 1959).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





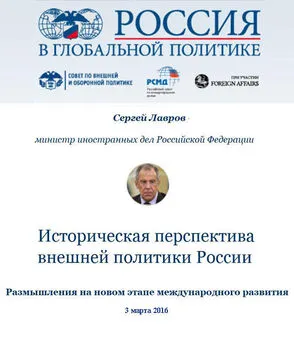

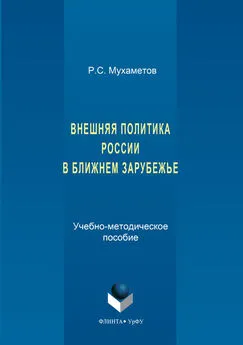
![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/1090951/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa.webp)