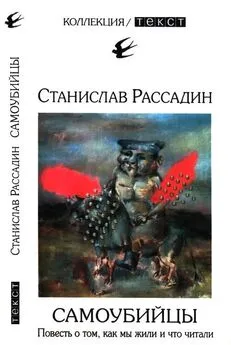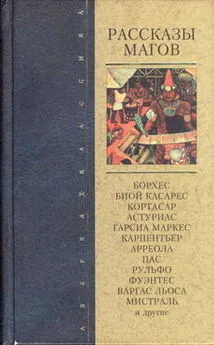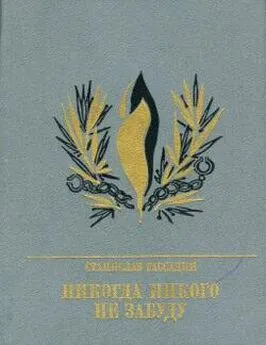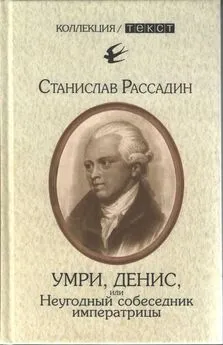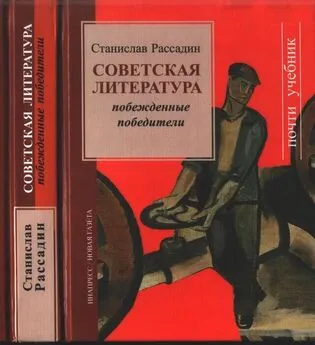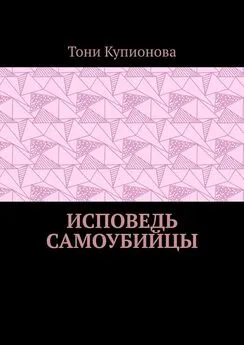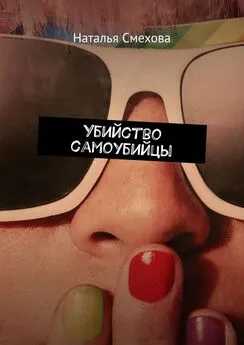Станислав Рассадин - Самоубийцы
- Название:Самоубийцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Текст
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-7516-0300-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Рассадин - Самоубийцы краткое содержание
Самоубийцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Напомню: в первую голову Лев Евгеньевич Хоботов, редактор поэтических переводов с романских языков (вы слыхали о менее общеполезной профессии?), у которого, в точности как у Лоханкина, с уст не сходят стихи. Безграничная недотепистость, воплощенная неприспособленность к жизни плюс сомнительное происхождение. Правда, «Лев Евгеньевич» — вроде бы не совсем ловится, но играющий Хоботова актер по фамилии Равикович не оставляет сомнений насчет пятого пункта.
А куплетист Велюров, этот полпред эстрады, пародия сразу на всех народных любимцев былых лет — Шурова и Рыкунина, Нечаева и Рудакова, Илью Набатова? В общем, тоже не от станка.
А сочинитель его идиотских куплетов, «писатель» Соев?
А «медицинский работник» Людочка хоть не шагнувшая дальше среднего специального, но как-никак представляющая собою само милосердие?
А… И так далее. Все смешны — и все из той социальной сферы, над которой смеяться и даже глумиться разрешено было всегда.
Так что начальству как будто гневаться не на что, зато интеллигентам-шестидесятникам, пожалуй, можно бы и обидеться в виде исключения. Потому что — «над кем смеетесь?». И главное, над чем? Не слишком ли авторы зашутились?
Вопрос не совсем риторический, если вспомнить температурные перепады пресловутой «оттепели» — из жары да в холод (казалось, еще чуть-чуть, и в сибирский или мордовский. Да и не «казалось»: при Хрущеве за «политику» в лагеря шли косяками).
Вообще ведь приметы «оттепели» — не только реабилитация сотен тысяч гулаговских узников, но и разрушенные церкви. И хрущевский кулак, отнюдь не метафорически занесенный над головами интеллигентов. И поношения «обголенной фульки», как, говорят, Никита Сергеевич, учиняя в Манеже погром, перекрестил «Обнаженную» Фалька. И организованная охота на Виктора Некрасова. И неотвратимо грядущий крах «Нового мира», голубая книжка которого вложена режиссером в руки Хоботова как опознавательный знак «оттепельного» интеллигента. И газетные поношения «Вертинского для неуспевающих студентов», он же «сочинитель белогвардейских мелодий», которые и создают в «Покровских воротах» ностальгический фон…
Когда начальственный гнев поутих и фильм, кое-что потеряв по дороге к телеэкрану, все-таки увидел свет, Давид Самойлов послал своему другу Козакову из эстонского Пярну (где жил последние годы) домашние, шуточные стихи:
Я «Покровские ворота»
Видел, Миша Козаков.
И взгрустнулось мне чего-то,
Милый Миша Козаков.
Ностальгично-романтична
Эта лента, милый мой.
Все играют в ней отлично,
Лучше прочих — Броневой.
В этом фильме атмосфера
Непредвиденных потерь.
В нем живется не так серо,
Как живется нам теперь.
В этом фильме перспектива,
Та, которой нынче нет.
Есть в нем подлинность мотива,
Точность времени примет.
Ты сумел и в водевиле,
Милый Миша Козаков,
Показать года, где жили
Мы без нынешних оков.
Не пишу тебе рецензий,
Как Рассадин Станислав,
Но без всяческих претензий
Заявляю, что ты прав,
Создавая эту ленту
Не для прочих м…ков,
И тебе, интеллигенту,
Слава, Миша Козаков!
Очаровательный самойловский юмор, его грациозное ерничанье не очень-то и пытались скрыть печаль — по тем временам, по тем людям, даже по тем дурацким иллюзиям (к которым, при его мощном уме, Самойлов как раз был склонен меньше многих. Если не всех).
И ведь действительно — фильм, который я прагматично использую как наглядное средство, при всем комизме своем, а возможно, как раз благодаря комизму, выявил нечто весьма характерное для того времени. Для его настроений — в частности, литературных.
Что именно?
Тот же Хоботов, белый клоун, на которого валятся все шишки, — это словно бы оправданный Васисуалий Лоханкин. Вернее, его множественный прототип, российский интеллигент, которого именовали то «гнилым», то «размагниченным», то и вовсе «паршивым». А страх Хоботова перед жизнью, чему Зорин с Козаковым сочувствуют (и что не мешает им довести его до степени комического абсурда), — разве реальность этой вечной боязни не доказана постоянством репрессий и унижений?
И даже Велюров, эта пародия на артиста с его профессиональными слабостями (тщеславие, да и пристрастие к горячительному), — трогателен. Сами его куплеты, уморительно оглупленные по законам комедии, тем не менее не циничны. Как и он сам, они простодушны… Да, да, простодушие — вот что актер Броневой угадал в своем выпивохе-эстраднике, а режиссер — и во всей эпохе пятидесятых-шестидесятых.
Да и все исполнители, играя в «Покровских воротах» каждый свое, изобразили единое целое: общество простаков , каковые как раз по этой самой причине весьма симпатичны (в России всегда были снисходительны к безобидным придуркам).
Что касается режиссера, то ему его простаки настолько милы, что жаль с ними прощаться, не оставив памятных знаков. Потому — как бывает при расставании и во взаправдашней жизни: стоп! Стоп! Стоп! Вспышки магния — и навек застывают физиономии персонажей, всех, без разбору значения и достоинств, будто фото в домашний альбом. И: «Молодость, ты была или не была?» — спросит голос самого Козакова, который взялся изобразить постаревшего шестидесятника. Спросит с тоской и словно с сомнением: да была ли она взаправду? Не приснилась ли посреди воцарившейся собачьей старости?..
Но тут я, козаковский ровесник, самозвано встаю в ряд с персонажами фильма. Включаюсь в ритуал расставания.
Опять — вспышка магния, но на сей раз мое мгновенное фото. Моя молодая, двадцатипятилетняя физиономия — должен признаться, тоже наивная до глуповатости.
И текст — прошу прощения, тоже мой:
«Черты нынешнего молодого поколения…
Это — „неформализм“ души, трезвость, прекрасно сочетающаяся с честностью и бескорыстием. Это — умение и желание мыслить, размышлять о жизни и о ее сложностях. Это — стремление во всем, за каждым словом увидеть судьбу человека. Того человека, что обычно именуется „простым“ и пишется с самой обыкновенной, незаглавной буквы».
И т. п.
Приходится цитировать свою очень давнюю статью, напечатанную журналом «Юность» в конце 1960 года, аккурат накануне наступления самих по себе шестидесятых, — приходится хотя бы к потому, что статья называлась «Шестидесятники». И это от нее пошла кличка, прилипшая к поколению, вернее, к людям достаточно разного возраста, лишь бы они входили в литературу (как и в прочие сферы жизни) в те годы.
Что до автоцитаты, то, как легко убедиться, привел я ее отнюдь не тщеславия ради.
«Неформализм»… «Желание мыслить…» Наивно? О да! Абстрактно? Донельзя! Ну было еще что-то вроде «воспитания правдой». Ну написал я, что скепсис, мол, не так уж и страшен, даже наоборот… В общем, вожу ныне пальцем по забытой мною самим статье и пытаюсь понять: как всему этому удалось некогда вызвать грозовую реакцию?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: