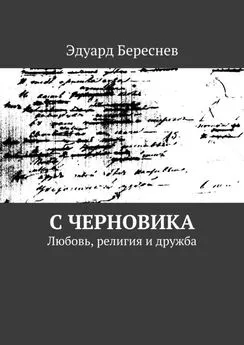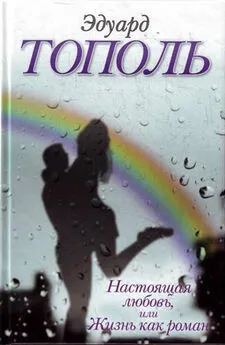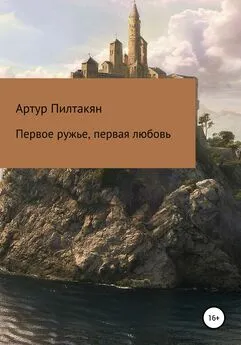Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Название:“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос # 5/6 2003 (35)
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Надточий - “Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева краткое содержание
Данная статья написана на основе доклада, прочитанного в марте 2000 год в г. Фрибурге (Швейцария) на коллоквиуме “Субъективность как приём”. Пользуясь случаем, хотел бы выразить организатору коллоквиума Игорю Кубанову свою признательность за стимулирующее участие в подготовке данного доклада
“Первая любовь”: позиционирование субъекта в либертинаже Тургенева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Считается само собой разумеющимся, что такой тип мужского персонажа — типичен для романтизма и им создан. И что один из важнейших ходов воспоследовавшего реализма — погружение этого “лишнего человека” в бытовую среду и создание психологических мотиваций его поведения. Повесть Тургенева, однако, позволяет увидеть эти шаблоны литературной эволюции в свете достаточно неожиданном. Конфликт двух соблазнителей, вторгающийся в “спор классицизма и романтизма”— т. е. рассечение одного штампа при помощи другого штампа — даёт нам возможность в обнажившихся зазорах нарративной цепи увидеть промельк совершенно неожиданных фигур литературной генеалогии. И прежде всего — точку, фокусировка на которой даёт возможность сделать предметом мысли эту дегенеративную меланхолию “лишнего человека”, со времён Гёте, Руссо и Константа свойственную определённому типу мужского персонажа.
2. Апатия
Итак, важнейшей чертой ведущего мужского персонажа европейской литературы первой трети 19 века — и том числе и главным признаком почти всех мужских персонажей Тургенева — является “вялость чувств”, невозможность целиком отдаться потоку захватывающих его страстей и вообще импульсам рождающейся в нём энергии. В ответ на (исходящие от женского протагониста) энергетические импульсы, на задаваемую женским протагонистом необходимость активного действия и выхода из дремотно-внутреннего состояния, мужской персонаж, классический для этой линии романтизма, отвечает чёрной меланхолией, ещё более глубоким и мощным погружением в “бездействие”. Не вообще бездействие — хотя русская литература и довела эту тенденцию до самых крайних и натуралистических пределов — но бездействие как невовлечённость в механизмы страсти. Персонаж этого рода принципиально внешен страстной части души, он не способен любить — и потому его любовь несёт проклятие любимой им девушке. Любовь его холодна, как сперма василиска. Состояние это подробно описано в исследованиях романтизма. Однако мне не удалось обнаружить серьёзных исследований, сопоставляющих состояние романтической невовлечённости и состояние либертинской холодной калькуляции сил соблазнения. На первый взгляд, сама аналогия достаточно произвольна: либертинский роман принадлежит “веку разума”, эпохе 18 века, с его духом калькуляции и таблиц, контроля разума над чувством, тогда как романтизм прославляет мистическое погружение в глубины духа, иррациональную игру чувств и некалькулируемость движений души, спонтанно склоняющейся к злу или к добру.
Повесть Тургенева заставляет поставить вопрос о связи либертинажа и романтизма более основательно. Конфликт отца и Зинаиды, представленный через призму споров “классицизма и романтизма”, обнаруживает достаточно неожиданные генеалогии у скучающих соблазнителей, “стоящих выше любви” — расхожих литературных персонажей первой половины 19 века.
Хотя техника соблазнения, которой пользуется отец, дана нам со значительной дистанции, можно всё-таки заметить, что человек он чрезвычайно холодный, что вовсе не бушующая страсть заставляет его “кидаться” на новую жертву. В данных нам описаниях его общения с Зинаидой мы видим индивида жестокого, хладнокровного, тщательно соблюдающего дистанцию, силой одной воли господствующего над ситуацией. Для контраста нам дан в повести совсем другой тип мужского поведения в любви — гусар Беловзоров, другой тип литературного штампа “страсти” (в повести вообще ничего нет, кроме намеренных стилизаций под расхожие штампы) — беспрерывно переполненный эмоциями, непосредственный, сгорающий в ревности холерик. На фоне гусара холодность отца ещё более бросается в глаза.
Или вот рассказчик описывает свои собственные отношения с отцом: “…когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником… Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла… Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно” (с.30). Мы ещё вернёмся к тому, что рассказчик именует “припадками” отца — они имеют сугубо воспитательный характер, это — симуляция припадков, их фон — абсолютный холод и самоконтроль.
Центр поведенческого стереотипа здесь составляет зона невозмутимости, вокруг которой вращается, как вокруг всё втягивающей чёрной дыры, сонм соблазнённых существ: сын, жена, друзья и многочисленные (по всей видимости) любовницы. Но зачем, для чего нужно такого рода индивиду соблазнение? Для самоутверждения? Для удовлетворение воли к власти? Но тогда какое место эта воля к власти занимает в психологическом строении этого персонажа (если вообще можно говорить о его “психологическом строении”)? И как она соотносится с диаграммой сексуальности и с аппаратом складывания персонажной фигуративности?
Мне приходилось в другом месте писать о позитивных сторонах модели “лишнего человека” [4] См.: Логос, 1999, № 2 (12), с.26-30.
: в характеристике фигур, подобных Отцу, Печорину или Нехлюдову, как “лишних людей” очень цепко схватывается неразместимость их в пространстве человеческого присутствия, в пространстве, где человек составляет центральное соединительное звено между глубиною вещей и поверхностью слов. “Лишним” этот “человек” является относительно той конфигурации пространства, в которой ему приходится удерживать своё присутствие. Его тождественность как человека, тавтология его самоудостоверения не находит в этой конфигурации достаточного основания для заключения сущего в круг присутствия.
Раньше мне казалось, что речь идёт о неизбежной, необходимой и невозможной имплантации позаимствованной у европейской культуры её фундаментальной структуры в среду, совершенно враждебную такого рода размерности, как “человек”. Через симуляцию в особой зоне успешности такой имплантации, как мне казалось, функционирует тот хрупкий аппарат редукции символического в знаковое, за счёт которого осуществляет своё приобщение к европейской культуре российский хаосмос.
Сегодня, однако, эти рассуждения я нахожу несколько упрощёнными. Подобный механизм, как я в дальнейшем для себя обнаружил, функционирует практически повсеместно и в самой т.н. “европейской культуре”. Речь может идти только о каких-то особых способах, какими совершается эта имплантация в российской ситуации, а не о радикальной уникальности ситуации “лишнего человека” в России. Саму тему “лишнего человека” русская критика заимствует у европейской — прежде всего французской — литературной критики. Видимо, само аксиоматическое присвоение некоторой топологической протяжённости агрессивного имени “европейской культуры” — неправомочно, есть один из рефлексов российского взгляда на вещи. “Европейская культура” — топологический аспект захвата сущего сознанием в круг присутствия, распространяющийся разным образом на разные местодействия сущего — одним образом на Россию, а другим, к примеру, на Францию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: