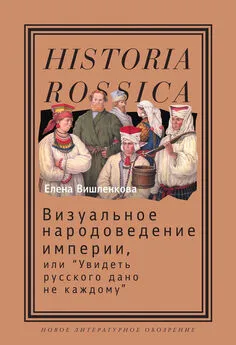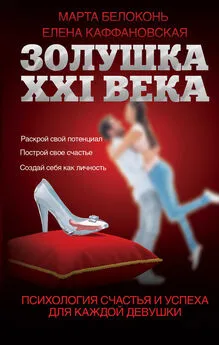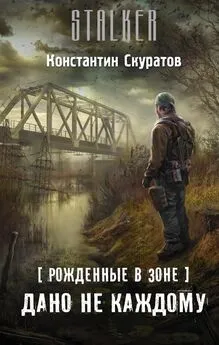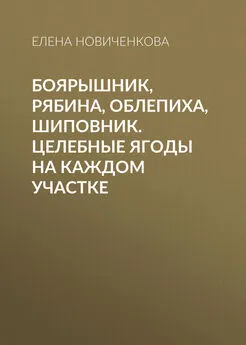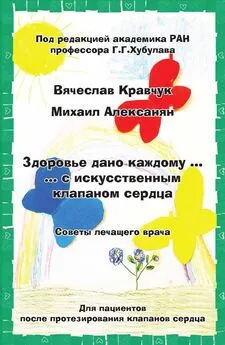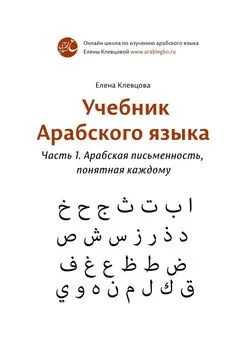Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Название:Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «НЛО»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0303-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Вишленкова - Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» краткое содержание
Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Гравюра «Русская купеческая жена в летнем платье» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Джентльмен в зимней прогулочной одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813
Для рассказа о России молодой англичанин избрал жанр писем к другу, в которых излагал свои путевые впечатления. Дабы усилить их убедительность, он иллюстрировал повествование гравюрами. Кажется, впервые в данном жанре вербальный текст играл роль ведущего, а изображение было ведомым. Всего в двух томах данного издания читатель обнаруживал 41 гравюру, из которых 32 были посвящены Российской империи, остальные – Швеции. Все они введены в тело книги, имеют цельнолистовой формат и проложены пергаментом. Особенно удачными с точки зрения техники рисунка и композиции являются видовые гравюры. Видимо, Портер был искусным видописцем, как тогда называли мастеров пейзажа. Судя по подписям, его помощниками в изготовлении гравюр служили резчики П.Э. Хабет и Ж.С. Стейдер.

Гравюра «Торговец в зимней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Торговец в летней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813
Открывает внушительное двухтомное издание фронтиспис со сложенной втрое гравюрой «Внутри русской почтовой конторы». Судя по сюжету, дело происходит в присутственном месте. На почтовую станцию прибыл то ли курьер, то ли офицер, и его принимает почтовый служащий. Все очень серьезно – лица мужчин сосредоточенны. При этом за спиной одетого в зеленый форменный сюртук чиновника, заполняющего государственную бумагу с гербом Российской империи, – печь с горшками и ухватами. На лежанке мирно болтают лежащие и сидящие женщины в простой крестьянской одежде. Одна из них кормит грудью младенца. Поставив данную гравюру в качестве фронтисписа, издатель, как кажется, раскрыл лейтмотив своего повествования: под покровом внешней цивилизованности русских кроется дикость.
Сравнение разновременных изданий писем Портера показало, что гравюры вклеивались в книги по-разному. Например, в издании 1813 г. гравюра «Внутри почтовой конторы» уже не служила фронтисписом. Она соединена с той частью текста, где автор вербально описывает сцену на почтовой станции в городе Клин. Такое размещение локализовало графическую идею, свело ее к уровню казуса. В то же время прочтение текста усилило восприятие образа. Представив читателю цветной рисунок, Портер не однажды сетовал на ограниченные возможности графики: «…Мой карандаш не в состоянии передать грязь, отвратительный запах и всю запущенность» [269].

Гравюра «Русский крестьянин в летней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Русская крестьянка» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Русская кормилица» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813
Героями «костюмных» иллюстраций Портера выступают православные священники, монахи, казаки, гвардейцы, няни, дворяне, торговцы, извозчики. При этом их одежда разительно отличается от той, в которой представлены аналогичные персонажи Х. Рота и Ж. Лепренса. Например, героиня гравюры «Русская купеческая жена» одета Портером в придворный костюм. А в гравюре «Русская купеческая жена в летнем платье» зритель рассматривал наряд, который западные люди привыкли отождествлять с Востоком. Женщина представлена в тюрбане из клетчатой материи, а ее платье с бордовой бархатной пелериной пошито из ткани с замысловатым растительным рисунком.
Если не руководствоваться категорией аутентичности или «этнографизмом», то зрительское восприятие портеровских типажей у читателя (не имеющего собственного опыта или предварительных знаний России) могло быть вполне позитивным. Костюм прочитывался скорее как знак социального статуса (одежда добротная, дорогая, новая, яркая), чем как этнический признак («русский» или «чувашский») [270]. Предвидя это, автор писал, что, возможно, на галантной (то есть западной) женщине одежда русских купчих смотрелась бы хорошо, но на тех, что видел он, она выглядела ужасно. Развивая эту мысль, Портер сообщал, что жены российских предпринимателей напоминают восковые фигуры, уместные разве что на кладбище, а не на публичном празднике, что зубы у них черные, лица мертвые, руки скрещены на груди. Одновременно с этим купчихи казались Портеру похожими на дам легкого поведения [271]. Так текст конвоировал взгляд зрителя.
Художественный образ дворянина в книге двойственен: на одной из гравюр он довольно сатиричен (мужчина «по уши» закутан в огромную шубу, из-под которой выглядывают почти клоунские башмаки); но в гравюре с изображением зимней повозки русский барин выглядит вполне благородно. Впрочем, судя по тексту, останавливаться подробно на дворянах автору не хотелось потому, что в их образах было мало странностей. Одежда дворян, сообщал Портер, такая же, как «наша», только во французском стиле.
А вот в одежде крестьян, в том простом одеянии, которым русские защищают себя от холода, британец заметил характерные черты северных регионов. Тем самым империя определялась как «северная» культура. Типизируя казуальные наблюдения, Портер рассказывал, что русские крестьяне летом ходят босыми и без головных уборов, только в полосатых штанах и длинной до колен рубахе. Женщины же носят голубого и желтого цвета сарафаны на плечевых бретелях, застегнутые спереди на пуговицы. Голову они обычно покрывают платками разных расцветок и в праздничном варианте носят их с кокошником. Зимой русские крестьяне носят длинный кафтан синего или коричневого цвета и полосатую рубаху со штанами (в красную или синюю полосу). Более всего британского путешественника поразили крестьянские сапоги и лапти – огромные и бесформенные. Ему казалось, что в такой обуви человеческая нога похожа на мешок с мукой [272]. Да и физическая антропология русского крестьянина виделась ему малопривлекательной: «Все они низкорослые, неуклюжие, круглолицые, маловыразительные и с болезненным цветом лица» [273]. Медицинская аргументация (признаки вырождения, физиологической ущербности, следы инфекционных или эпидемиологических последствий либо, напротив, – природного здоровья и жизнеспособности) стала в это время новым средством означивания народов [274].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: