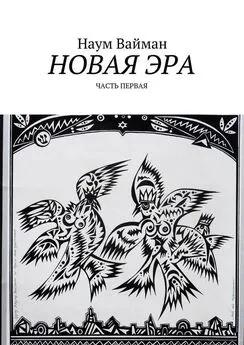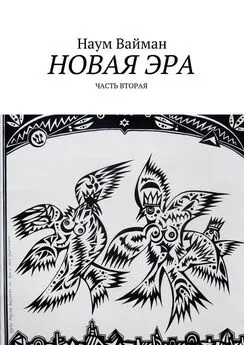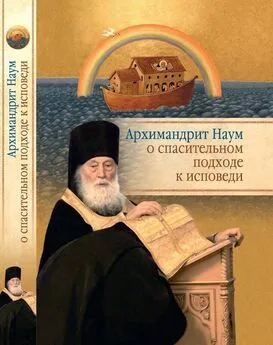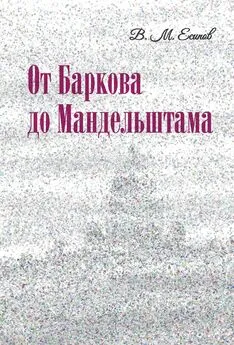Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]
- Название:Преображения Мандельштама [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2020
- ISBN:978-5-00165-147-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres] краткое содержание
В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов.
Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами. Они были опубликованы в разных журналах и в разное время, а посему встречаются повторения некоторых идей и цитат.
Преображения Мандельштама [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
М. Лотман при этом осторожно обходит этот очевидный источник:
Опираясь на ряд (преимущественно устных) высказываний позднего Мандельштама, некоторые авторы считают возможным говорить о его возврате (?) к иудаизму. Поскольку автор этих строк совершенно не компетентен в последнем… то и оспаривать этот тезис он не берется. Тем более что у позднего Мандельштама, действительно, очевидно пробуждение интереса к еврейской проблематике.
Что ж, и на том спасибо. Стоит еще добавить, что хотя сам Лотман считает эстетику Мандельштама «строго православной», но при этом подчеркивает связь православия с «ветхозаветной духовностью, то есть “в каббалистических высказываниях” Мандельштама не содержится ничего, что противоречило бы духовной традиции русского православия».
Что же касается планов поэта через овладение искусством слова стать наследником чужих княжеств, то он рано почувствовал, что на этом пути его ждет «несимметричный ответ». Печальный исход этой эротической схватки с русской культурой стал ему ясен в перипетиях короткого романа с Цветаевой.
10. Имя, песок и Египет
Отмечу еще одно стихотворение, где упоминается «имя»: «Не веря воскресенья чуду…», посвященное Марине Цветаевой и написанное в пору пылкого общения поэтов веснойлетом 1916 года. «Имя» здесь – то, что «остается» (продолжается спор с Державиным), но возлюбленной дарится почемуто песок:
Нам остается только имя —
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
«Песок» – часть зыбучей «державинской линии» с её «бедуинами», «Египтом» и поэтическими наитиями. Сыпучий песок, как и текучее время (в державинском духе) – символ победы пустыни и смерти, он бессмысленно сыпется, не оставляя следов, как в стихотворении Анри де Ренье (перевод Волошина):
Возьми… и дай ему меж пальцев тихо стечь.
Потом закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих вод морских и ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках… и вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты
Лишь горсть песка, что жизнь порывы воль мятежных
Смешает как пески на отмелях прибрежных…
Как считает Леонид Видгоф, часто возникающий в стихах Мандельштама образ арабских (аравийских) песков «вообще символ бесструктурной, неорганизованной материи» 165. Таким и было представление Мандельштама о России, позаимствованное им у Чаадаева:
В младенческой стране, стране полуживой материи и духа, седая антиномия косной глыбы и организующей идеи была почти неизвестна. Россия в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру 166.
Как и Чаадаев, он считал Россию страной вне истории, то есть вне времени.
Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы начать историю. Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где его нет, там в лучшем случае – «прогресс», а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь… 167
А песок, конечно же, «аравийский» с легкой руки Пушкина: «И в аравийском урагане,/И в дуновении Чумы». И у Пушкина песочный ураган связан со смертью. Эта связь песка и смерти отзовется потом и в споре Геометра Песков с Иудеем в «Восьмистишиях», и в «Стихах о неизвестном солдате», где кроме «аравийского месива, крошева» в одном из вариантов есть прямая перекличка с Пушкиным:
Смертоносная ласточка шустрится,
Вязнет чумный Египта песок.
Не забудем, что ласточка в одноименном стихотворении Державина – метафора души «патриарха» 168, а Египет – метафора России, то есть Пушкин не только не исключается из этой пространственной (чувственной, языческой, «бедуинской») линии русской поэзии, он ее венчает.
11. Пушкин
Мандельштам мало пишет о Пушкине. С тяжелой руки Ахматовой принято считать, что это свидетельство его благоговения перед великим русским поэтом. Думаю, что это не совсем так 169. Пушкин, конечно, гений, и все такое, но для Мандельштама он культурный герой «не его романа» 170: сюжетные или исторические поэмы, событийная проза, чувственные излияния и политические инвективы – не его темы, с метафизикой и тут слабовато 171. В «Египетской марке», на фоне этой «еврейской картины мира», русский гений выведен почти карикатурно: изображением на перегородке, за которой
гудело, тягучим еврейским медом, женское контральто. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас. Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе…
Все та же «барственная шуба», как знак русской литературы и холода русской жизни. В «Шуме времени» Мандельштаму мерещится Константин Леонтьев, что посреди петербургской зимы, «запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско‐монгольское лицо». Леонтьев и предлагал «подморозить Россию, чтобы не сгнила». Потому он и вспомнился‐померещился, что завершает собой девятнадцатый век русской классики, начатый Державиным и зацветший Пушкиным, и Мандельштам видит этот век как «единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму» 172.
Известно со школьной скамьи, что Александр Сергеевич подвел творческий итог своей поэтической деятельности стихотворением «Памятник» (перевод‐обработка одноименной оды Горация):
И долго буду тем любезен я народу 173,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Эту оду Горация переводили, как упражнение, многие русские поэты: Ломоносов, Капнист, Фет, Державин (противореча себе: «Так! – весь я не умру, но часть меня большая от тлена убежав, по смерти станет жить…»). Но Гершензон в своей работе «Мудрость Пушкина» именно перевод Пушкина считает типичным примером русского двоемыслия, или, по крайней мере, пушкинской хитрости:
Эта строфа («И долго буду тем любезен я народу…» – Н.В .) не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит себе. <���…> Пушкин говорит: «Знаю, что мое имя переживет меня… Но что будет гласить эта слава? Увы! Она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне… за их (стихов – Н.В .) мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы 174.
В последней строфе, в опровержение предыдущей, Пушкин провозглашает (по мнению Гершензона) подлинное назначение поэта, как служителя муз, а не народа, и даже полное к этому «народу» презрение:
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Наум Вайман - Преображения Мандельштама [litres]](/books/1142516/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres.webp)