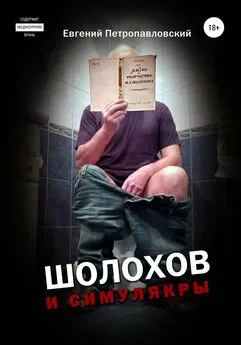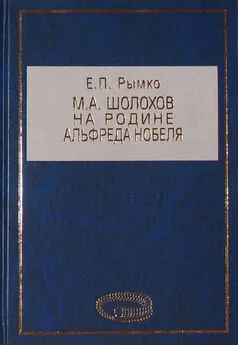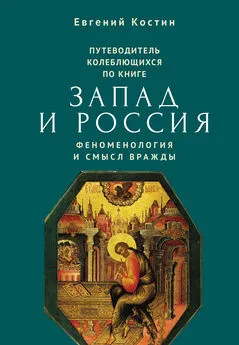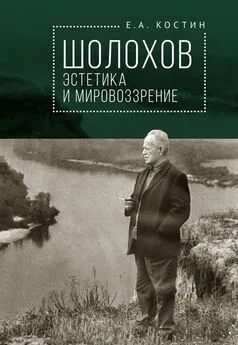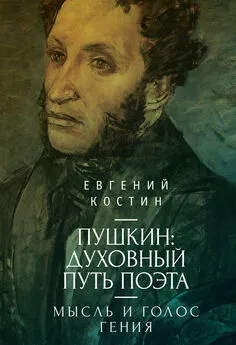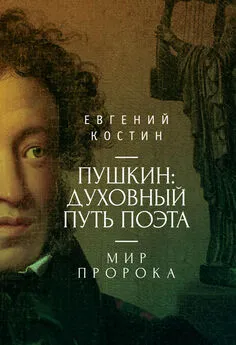Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]
- Название:Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00165-077-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] краткое содержание
В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом. Читатель, может быть, неожиданно для себя увидит нового Шолохова: писателя со сложной картиной мира, художественно изощренного, удивительно правдивого и истинно народного.
Идеал, гуманизм, оригинальная философская мысль писателя, эстетические категории трагического, катарсиса, комического, хронотопа и ряд других анализируются в книге Е.А. Костина. Особый интерес представляют рассмотренные исследователем острые вопросы революции 1917 года в связи с развитием русской цивилизации в XX веке.
Книга выходит в юбилейный для писателя год (115 лет со времени рождения) и предназначена для самых широких слоев читателей, которых продолжают заботить судьбы России и ее культуры сегодня.
Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Свобода духовного бытия народа – вот, вероятно, одна из главных внутренних опор художественного мира Шолохова. Эта свобода обнаруживает себя с большой силой в описании ситуаций ускоренного социального развития народа, как, скажем, диалектическим скачком начинает развиваться самосознание Григория Мелехова в событиях революции и гражданской войны. Чем сильнее давление внешних обстоятельств, тем отчетливее выявляется у народа та сила сопротивления, без которой народ распадается, и соответственно, гибнет государство. Поэтому герои Шолохова проходят как через испытания верой, так и испытывают саму веру. Причем эту «веру» необходимо понимать в самом широком смысле. Народ, по Шолохову, не может не верить, основа его существования, включенность в бытие связаны как раз с исходными, врожденными чувствами привязанности и доверия к жизни. Вне такого самоощущения никакой этнос выжить не может. Это сложный комплекс убежденности в том, что правда жизни существует, что в жизни необходимо искать и взыскивать от власти справедливости, что есть набор человеческих ценностей, без которых человек пропадает и исчезает как часть людского сообщества. Здесь сосуществуют и вера в Бога, и любовь к родной земле, и радость от труда на ней – вся эта неразложимая никакими субъективными усилиями правда является базой для в е р ы народа в целом.
Индивидуализированное сознание ищет себе спасения в частностях, в верхних слоях исторических бурь, в то время, как главный удар стихий приходится как раз на народную основу. Ведь трагедия Григория Мелехова (забегая в разговоре о герое «Тихого Дона» наперед) заключается в этом его почти случившимся отрыве от народной веры в основное и позитивное начало в жизни. Да и то, был ли у него другой выход, если все порушено и уничтожено (почти все!) в действительности, и никакой отдельной человеческой субъективностью с этим не справиться.
Исследователь эстетики Шолохова будет нуждаться в определении субъекта эстетического сознания в мире писателя, в понимании его генезиса, социально-исторической детерминированности, объяснении связи с иными типами эстетического сознания.
Парадоксальность художественно осуществленного эстетического субъекта шолоховского творчества состоит в том, что он, этот субъект располагается в одном пространстве со своим объектом.
Акцентируя внимание на данном эстетическом феномене, отмеченном и убедительно проанализированном в науке (Л. Киселева, И. Великая, И. Драгомирецкая и др.), мы обратимся к теоретическому аспекту этого явления.
У Шолохова в особом единстве находятся гносеологический и аксиологический моменты его творчества. Говоря по-иному, это эстетически сформированная им целостность соответствия, корреляции того, что он познавал и описывал в своих произведениях (революцию, события гражданской войны, процессы коллективизации, подвиг народа в Великой отечественной войне), и того, что он оценивал (место народа в государстве, роль человека в истории, новые формы коллективного общежития людей, защита Отечества). Субъективно-творчески Шолохов выступил не как холодный и беспристрастный летописец драматических событий истории. Напротив, свой объект изображения и познания он считал наиболее ценным, онтологически самым важным. Это во многом определяет своеобразие субъектно-объектных отношений в его творчестве: тип народности, пафос, стиль, авторскую позицию.
Понимание этого единства важно и потому, что оно уводит нас от примитивно понимаемого зеркального отражения действительности в реализме. Существенно оно и в том отношении, что позволяет теоретически вычленить различные уровни осуществления познания-оценки в художественном произведении. Е. Волкова замечает в связи с этим вопросом: «Но каков бы ни был тот или иной конкретный объект воспроизведения в искусстве, предметом непосредственного и опосредованного познания и оценки является всегда некий специфический аспект действительности». И, следовательно, – «предмет познания и оценки… не обязательно должен совпадать с объектом непосредственного воспроизведения… Основным предметом познания и оценки и в случае их несовпадения остается человеческий, ценностный смысл объективного мира, находящегося вне человека, но приобретающего для него особое значение в процессе общественной практики и развития культуры» [5, 100-101].
Истинная объективность, к которой стремится настоящий писатель и прежде всего писатель-эпик, основана не на детальном, «рабском» копировании действительности. Обыденность, прозаичность, тривиальность воспроизводимой жизни, все это, что вслед за поэтом можно назвать «тьмой низких истин», не может заменить эстетическую ясность, отчетливость, в которой воплощается правда в искусстве. «От произведения искусства, где действуют вымышленные лица, требуется, – писал А. де Виньи, – философское изображение человека, подвластного страстям своей натуры и своего времени, следовательно, правда об этом человеке и об этом времени, но поднятых на высшую, идеальную ступень могущества, где сконцентрирована вся их сила. Эту правду узнаешь в творениях духа так же, как поражаешься сходству портрета с оригиналом, которого никогда не видел; ибо большой талант изображает в большей степени жизнь, чем живущего» [6, 422].
Объективность шолоховского повествования не отнимает у писателя сильной ноты субъективной оценки, высказывания своей позиции. Его творчество содержит в себе то, что А. Веселовский называл «субъективизмом эпоса, коллективным субъективизмом» [7, 271]. Смысл его заключается в том, что, как писал ученый, – «человек живет в родовой, племенной связи и уясняет себя сам, проектируясь в окружающий его объективный мир, в явления человеческой жизни. Так создаются… обобщения, типы желаемой и нежелаемой деятельности, нормы отношений…» [7, 271]
А. Веселовский указывает, что это явления, свойственные «началам эпоса», тем стадиям развития эпической поэзии, когда она выступает в своей миросозерцательной чистоте и ясности. Современная филология, опираясь во многом на художественные открытия, сделанные Шолоховым, пришла к заключениям, согласно которым обращение искусства (литературы в том числе) в периоды глобальных изменений структуры общества, смены цивилизационных эпох к ранним формам художественной деятельности человека представляется глубоко закономерным явлением. Основанием такого обращения (не только Шолохова, но А. Блока, В. Маяковского, Л. Леонова, М. Пришвина, А. Платонова применительно к событиям исторических перемен в России) выступает содержательная почва древних форм синкретического освоения действительности – мифологии, фольклора, иных жанров народного творчества. Она, эта почва, сводится к тому, как верно пишет А. Минакова, что «в народном мироосвоении, в фольклоре, в мифе были обнаружены… «идущие… далеко» идеи равенства людей, идеи народного единства и социальной справедливости… Более того, обращение к первобытным, народным мифам, освоение народного, первобытного мифологического и мифопоэтического мышления как стадий развития человеческого сознания обнаружило стадиально-типологическую близость мифов и мифомышления всех народов мира, как выражение определенной исторической стадии развития человечества как рода…» [8, 62]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Костин - Шолохов: эстетика и мировоззрение [litres]](/books/1142518/evgenij-kostin-sholohov-estetika-i-mirovozzrenie.webp)
![Наталия Костина-Кассанелли - Найти, чтобы потерять [litres]](/books/1068026/nataliya-kostina.webp)
![Евгений Гаглоев - Силуэт в разбитом зеркале [litres]](/books/1079570/evgenij-gagloev-siluet-v-razbitom-zerkale-litres.webp)
![Евгений Гаглоев - Ларец, полный тьмы [litres]](/books/1083122/evgenij-gagloev-larec-polnyj-tmy-litres.webp)
![Михаил Шолохов - Поднятая целина [litres]](/books/1100320/mihail-sholohov-podnyataya-celina-litres.webp)