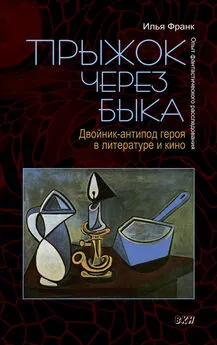Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Название:Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВКН
- Год:2020
- ISBN:978-5-7873-1594-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание
Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Кадр из фильма Акиры Куросавы «Идиот» (1951). Акамо-Рогожин и Камеда-Мышкин под одним одеялом. (Рогожин – двойник-антипод князя Мышкина)
Акакий Акакиевич – жених «шинели». И он попадает в «критский лабиринт», в котором перемежаются свет и тьма: он оказывается испачкан – черным и белым. Как черный, так и белый цвет грязи означают невидимость героя, переход его в царство мертвых. Вот что говорит Пропп в связи с мотивом «грязного жениха» в сказке:
«В сказке неузнанный герой часто бывает грязен, вымазан в саже и пр. Это – “Неумойка”. Он заключил союз с чёртом, который запрещает ему мыться. За это чёрт дает ему несметное богатство, после чего герой женится. Он “не стрижется, не бреется, носа не утирает, одежды не переменяет”. Это продолжается 14 лет <���…>, после чего герой говорит: “Ну, служба моя кончена”. “После этого чёрт изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай варить; сварил, вымыл и собрал все воедино, как следует”. Он взбрызгивает его живой и мертвой водой. <���…> Посвящаемый не только не умывался, но обмазывался золой. Это обмазывание очень существенно: неумывание связано с обмазыванием или сажей, или глиной, т. е. собственно с окраской в черный или белый цвет. <���…> окраска в белый цвет связана со слепотой и невидимостью. С этим же, по-видимому, связана окраска в черный цвет. <���…> неумыванье <���…> связано также с пребыванием в стране смерти. <���…> сибирский шаман, отправляющийся в царство мертвых с душой умершего, вымазывает лицо сажей. <���…> так часто встречающееся в фольклоре переодевание героя, обменивание одеждой с нищим и пр. есть частный случай такой перемены облика, связанной с пребыванием в ином мире».

Кадр из фильма Акиры Куросавы «Идиот». Проезжающий мимо автобус окатывает Камеду-Мышкина снегом (когда тот возвращается из дома Рогожина-Акамо). А когда Камеда поднимался по лестнице в доме Акамо, тот его предостерег: «Здесь не споткнись». Как падение, так и обрызгивание (окрашивание, перепачкивание, заваливание) чем-либо белым или черным (известью, грязью, сажей и т. п.) нередко случается с героем при встрече с двойником-антиподом (и белый, и черный цвет означают при этом то, что герой, уходя в царство смерти, становится невидимым)
Встреча с судьбообразующим двойником-антиподом нередко предвещается «двойническим» именем: Акакий Акакиевич, Чичиков (Чи-чи-ков). Чичиков еще и «Ринальдо Ринальдини», а также «капитан Копейкин» (вполне двойническое созвучие звания и фамилии).
Обзаведясь шинелью, Акакий Акакиевич делает попытку бега-полета – за дамой («Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо»), причем возникает вполне люциферовский образ молнии, знакомый нам по концовке первого тома «Мертвых душ» («не молния ли это, сброшенная с неба?»), а затем героя повести принимает «бесконечная площадь», похожая на море, «страшная пустыня». И в других произведениях Гоголя полет выводит на видение большого (и застывшего) пространства. Например, в повести «Вий», где происходит полет с ведьмой. В повести «Тарас Бульба» Андрий думает о своей встрече с прекрасной панночкой (и вспоминает, как он свалился при этом в грязь, чем рассмешил свою «Прекрасную Даму» [86]), затем три казака (тоже своего рода тройка) скачут-летят по степи («да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами»), затем мы с автором любуемся пространством степи («Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею…»). Если в конце первого тома «Мертвых душ» мы видим полет, «птицу тройку», то второй том начинается с вида необозримого пространства («Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумленья у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: “Господи, как здесь просторно!” Без конца, без пределов открывались пространства»).
Сибирский шаман становится пернатым и отправляется в «магический полет», чтобы затем видеть всё – всю землю. Вот что, например, рассказывает один якутский шаман (в книге Г. В. Ксенофонтова «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов»):
«Бог Грома спустился с небес и разнес меня на маленькие кусочки. <���…> Теперь я вернулся обратно к жизни шаманом, и я могу видеть все, что делается в округе на расстоянии в тридцать верст».
Гоголь также, видимо, обладал подобной сверхчеловеческой способностью. Так, в повести «Страшная месть» мы читаем:
«За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская».
Расскажите какому-либо, скажем, дикому тунгусу или другу степей калмыку, не читавшему поэму Гоголя, вкратце ее сюжет: один человек собрал мертвые души, везет их в своей бричке, которая превращается в «птицу тройку» и летит. Он скажет: «Подумаешь, какая невидаль! Шаман усаживает (во время больших поминок, проводящихся раз в год или реже) души умерших на нарту и везет их в загробный мир».
(Из этого, кстати, становится понятно, почему Гоголь так часто – и, казалось бы, некстати – употребляет слово «русский», вообще нередко заговаривает о чем-либо «русском». В сказке «русский» означает «живой». А мы с Гоголем находимся на дороге в загробный мир.)
А. В. Смоляк пишет:
«Нанайские шаманы “оживляли” души умерших, давая им возможность общаться с родственниками до больших поминок включительно».
«Оживляет» души умерших и Чичиков, размышляя над их списком, представляя мертвых крестьян живыми. Есть такой вариант «оживления» списком: шаман перед «большими поминками» должен был рассказать об умерших их родственникам, то есть должен был «увидеть» умерших, которых он лично мог не знать, должен был «угадать их». Если рассказ выходил недостоверным, шамана бранили или даже били.
Гоголю, наверное, мало что было известно о сибирском шаманизме. Однако он – по природе своей! – был самым настоящим шаманом – «истинным чародеем» (по образному выражению Белинского, в применении к Гоголю неожиданно обретающему буквальный смысл). Представьте себе, например, такую иронию судьбы: родился среди народа, кочующего в степи, гениальный альпинист. Он не знает, что он – альпинист, и никогда не узнает. Но мучается, ищет какое-то соответствие своему неприложимому таланту среди своего народа, в степи. Скажем, прыгает в высоту или вьет веревки. Любопытно, что непонятная болезнь Гоголя (включая его жалобу на «перевернутый вверх ногами желудок») весьма напоминает так называемую «шаманскую болезнь». А. В. Смоляк пишет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)
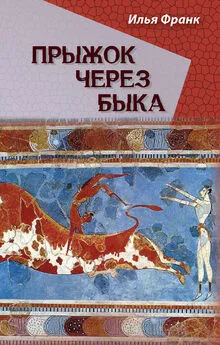
![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)
![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081978/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-s-op.webp)
![Кристи Голден - Артас. Восхождение Короля-лича [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081982/kristi-golden-artas-voshozhdenie-korolya.webp)
![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)
![Райли Сейгер - Моя последняя ложь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082138/rajli-sejger-moya-poslednyaya-lozh-litres-s-optimizi.webp)
![Тэйлор Адамс - Выхода нет [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082142/tejlor-adams-vyhoda-net-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Айзек Азимов - Лаки Старр и спутники Юпитера [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082618/ajzek-azimov-laki-starr-i-sputniki-yupitera-litres.webp)