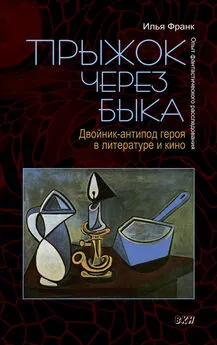Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Название:Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВКН
- Год:2020
- ISBN:978-5-7873-1594-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание
Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
308
А. Н. Афанасьев в статье «Вода» приводит следующую русскую сказку (с аналогичным сюжетом»): «Был у мужика мальчик-семилеток – такой силач, какого нигде не видано и не слыхано! Послал его отец дрова рубить; он повалил целые деревья, взял их словно вязанку дров и понес домой. Стал через мост переправляться, увидала его морская рыба-кит, разинула пасть и сглотнула молодца со всем как есть – и с топором, и с деревьями. Мальчик и там не унывает, взял топор, нарубил дров, достал из кармана кремень и огниво, высек огня и зажег костер. Невмоготу пришлось рыбе: жжет и палит ей нутро страшным пламенем! Стала она бегать по синю морю, во все стороны так и кидается, из пасти дым столбом – точно из печи валит; поднялись на море высокие волны и много потопили кораблей и барок, много потопили товаров и грешного люду торгового; наконец прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берег да тут и издохла. Четверо суток работал мальчик топором, пока прорубил у нее в боку отверстие и вылез на вольный белый свет».
309
Впервые – в журнале «Литература» (№ 1 за 2015 год.)
310
Такой опыт, конечно, можно проделать не только с русскими словами. Полюбуйтесь на английский пример подобного всматривания в слово – из «Оды к соловью» Джона Китса:
Forlorn! the very word is like a bell (затерянный/покинутый! само слово подобно колоколу)
To toll me back from thee to my sole self (чтобы звонить мне в ответ: «обратно» от тебя к моему одинокому существу/к моему одинокому я)!
Или на немецкий – из сказочной повести Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох»: «Дурным предзнаменованием казалось старому Тису то, что, будучи еще маленьким ребенком, Перегринус предпочитал разные бляхи дукатам, а к большим денежным мешкам и счетным книгам возымел вскоре решительное отвращение. Но уже совсем удивительно было то, что слова “вексель” он просто слышать не мог без судорожного трепета: он уверял, что при этом испытывает такое ощущение, точно скоблят острием ножа взад и вперед по стеклу» (Was aber am seltsamsten schien, war, dass er das Wort: Wechsel, nicht aussprechen hören konnte, ohne krampfhaft zu erbeben, indem er versicherte, es sei ihm dabei so, als kratze man mit der Spitze des Messers auf einer Glasscheibe hin und her).
311
Сравните с тем, как в Библии расширением имени человека может быть нарисована картинка его судьбы. Например, Иаков, предсказывая судьбу сыну Гаду («гад» на древнееврейском языке – «счастье, удача»), извлекает ее из звучания его имени: «Гад гэдуд йэгудэнну вэhу ягуд ‘акев» («Гад – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам»). Это, конечно, не только предсказание, но и заклинание.
312
Осип Мандельштам в «Разговоре о Данте» пишет: «Всякий период стихотворной речи – будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая – необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, “солнце”, мы не выбрасываем из себя готового смысла, – это был бы семантический выкидыш, – но переживаем своеобразный цикл.
Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося “солнце”, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что гoворить – значит всегда находиться в дороге».
313
Сравните: Фердинанд де Соссюр в записях об анаграммах отмечает, что в ведийском гимне (например, посвященном богу огня Агни или громовнику Индре) повторяются слоги соответствующего священного имени. Исходя из этого, он высказывает предположение, что поэзия родилась из подобных развернутых имен: «Вначале были только маленькие сочинения, состоявшие из 4–8 стихов. По своему содержанию это были либо магические формулы, либо молитвы, либо погребальные стихи, а может быть, и хоровые, то есть, как будто случайно, их состав соответствовал тому, что мы в своей классификации называем “лирикой”. <���…> Основанием для появления анаграмм могло бы быть религиозное представление, согласно которому обращение к богу, молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены слоги имени бога».
314
Иными словами, здесь шесть стоп. Каждая ямбическая стопа – это сочетание безударного и ударного слогов. Стих (то есть строка) шестистопного ямба, кроме того, распадается на две половинки (по три стопы в каждой) с паузой (цезурой) посередине. Пауза возникает из-за того, что третья стопа (первой половинки) непременно совпадает с концом слова: «Кузнечик дорогой, / коль много ты блажен…» Существует правило: в шестистопном ямбе обязательна цезура на третьей стопе.
315
Правда, звуки З и Ж близки по своей артикуляции (оба звука – звонкие, щелевые, переднеязычные, только З – зубной, а Ж – нёбный). Так что можно и так сказать: З слова «кузнечик» перерастает в Ж слов «блажен», «жизнь». Нечто звенящее и сухое переходит в нечто влажное, сочное.
316
«То ты еси», это есть ты – индуистское «великое изречение», встречающееся в «Чхандогья-упанишаде» (начало 1-го тыс. до н. э.), в диалоге мудреца Уддалаки с сыном.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)
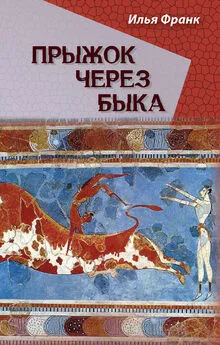
![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)
![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081978/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-s-op.webp)
![Кристи Голден - Артас. Восхождение Короля-лича [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081982/kristi-golden-artas-voshozhdenie-korolya.webp)
![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)
![Райли Сейгер - Моя последняя ложь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082138/rajli-sejger-moya-poslednyaya-lozh-litres-s-optimizi.webp)
![Тэйлор Адамс - Выхода нет [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082142/tejlor-adams-vyhoda-net-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Айзек Азимов - Лаки Старр и спутники Юпитера [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082618/ajzek-azimov-laki-starr-i-sputniki-yupitera-litres.webp)