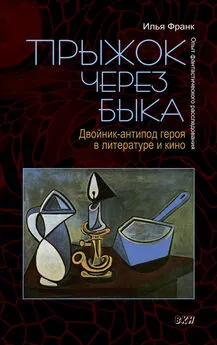Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Название:Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВКН
- Год:2020
- ISBN:978-5-7873-1594-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] краткое содержание
Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
191
Кинг-Конг (в одноименном фильме 1933 года) является звериным двойником помощника капитана (Джека), влюбленного в главную героиню. В начале путешествия Джек был груб с ней – и именно его и героиню другой персонаж назвал: «красавица и чудовище». Примечательно и то, что в конце фильма Кинг-Конг падает (сначала вниз головой, а затем переворачиваясь в воздухе) с небоскреба. В имени «Кинг-Конг» звучит английское tick-tock (тик-так). Это замечательно, поскольку главная роль двойника-антипода – провести героя через смерть и тем самым сделать его жизнь законченной, закругленной, полной – подобной произведению искусства, стихотворению. (Как заметил один из английских литературоведов, мы слышим в ходе часов «тик-так» именно потому, что нам нужно придать мгновению художественную законченность, чтобы преодолеть дурную бесконечность «тик-тик-тик…». «Тик-так» – это «начало-конец».)
192
«Я не могу четко видеть».
193
Князь Мышкин и Рогожин у тела Настасьи Филипповны – явленная «сущностная форма» (герой ↔ Прекрасная (она же Ужасная) Дама ↔ двойник-антипод. Как отметил в одном из писем сам Достоевский, «для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман».
194
Или ослепляется, как, например, Полифем, или ослепляет (в общем, является носителем слепоты), как Песочный человек в одноименном рассказе Гофмана (который затем воплотится в адвоката Коппелиуса, алхимика, а затем в торговца барометрами и конструктора роботов Копполу): «Ах, маменька, кто ж этот злой Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с виду?» – «Дитя мое, нет никакого Песочника, – ответила мать, – когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошило песком»».
195
В фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна» (1957) профессору медицины Исаку Боргу снится, что он забрел в какой-то пустой город. Он видит круглые часы без стрелок, причем под циферблатом висит изображение двух глаз. Затем профессор замечает фигуру мужчины в черном пальто и черном котелке, стоящего к нему спиной. Профессор подходит и трогает мужчину за плечо. Тот оборачивается – и профессор отшатывается, так как лица у мужчины практически нет (оно «сжато в кулак»). Затем мужчина падает, шляпа его отлетает, и из головы на мостовую течет кровь. После чего приезжает катафалк, запряженный двумя черными конями, и задевает колесом за фонарь. Колесо отваливается и катится к профессору, наполовину при этом развалившись. Фонарь же пошатнулся и в свою очередь чуть не лишился головы (его стеклянный короб сломался и съехал набок). Катафалк кое-как двинулся дальше, но при этом из него выпадает гроб и частично разваливается. Из гроба торчит рука. Рука начинает подавать знак (иди сюда). Профессор подходит и видит в гробу самого себя. Оживший мертвец хватает своей рукой руку профессора, тянет к себе вниз (в гроб) – и Исак Борг просыпается.
196
В повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902), которая вдохновила Копполу на его фильм, Куртц предстает соединением «Кощея Бессмертного» с вечно голодным людоедом: «Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним». Река же предстает в повести мифическим зверем: «Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, – она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны».
197
Так, в рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник» (1895) главному герою перед смертью является двойник – в виде куста чернобыльника. Куст что-то говорит герою обо всей его жизни – своим видом и своими роковыми повторами (герой сбился с пути и, блуждая, все время возвращается к этому чернобыльнику): «Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь.<���…> И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было».
198
Например, в набоковском «Даре» (1938): «Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел – с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, – как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад». Или в «Приглашении на казнь»: «…бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого».
В романе Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй» (1925) сошедший с ума ветеран Первой мировой Септимус Смит открывает для себя новую религию:
«Но они кивали; листья были живые; деревья – живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок – белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии…
– Септимус! – сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как бы люди не заметили».
«Новая религия» Септимуса Смита похожа и на восприятие мира юным Петей Ростовым из «Войны и мира» – мира как сочиняемой Петей фуги, и на разговор студента Ансельма со змейками в листве из романтической сказки Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» (1814) – разговор, который резко обрывается «людьми», заметившими «безумные проделки студента Ансельма».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)
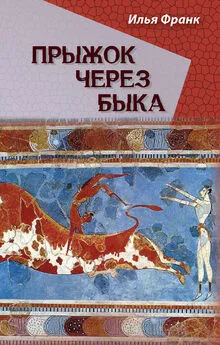
![Виталий Храмов - Темные тропы [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1059550/vitalij-hramov-temnye-tropy-litres-s-optimizirova.webp)
![Вячеслав Шалыгин - Джокер [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081518/vyacheslav-shalygin-dzhoker-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081978/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-s-op.webp)
![Кристи Голден - Артас. Восхождение Короля-лича [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1081982/kristi-golden-artas-voshozhdenie-korolya.webp)
![Дмитрий Зурков - Вперед на запад [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082088/dmitrij-zurkov-vpered-na-zapad-litres-s-optimizir.webp)
![Райли Сейгер - Моя последняя ложь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082138/rajli-sejger-moya-poslednyaya-lozh-litres-s-optimizi.webp)
![Тэйлор Адамс - Выхода нет [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082142/tejlor-adams-vyhoda-net-litres-s-optimizirovannoj.webp)
![Айзек Азимов - Лаки Старр и спутники Юпитера [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1082618/ajzek-azimov-laki-starr-i-sputniki-yupitera-litres.webp)