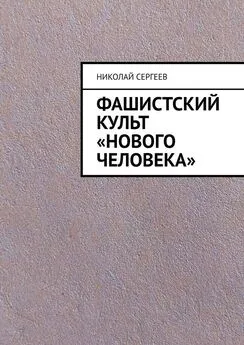Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Название:Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клэр Макколлум - Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 краткое содержание
изданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)
отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный на
идеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальной
культуре СССР 1930-х). Решающим фактором в формировании такого
образа стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,
физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехватка
в послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистической
культуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностью
игнорировать официальная пропаганда. Именно война, а не окончание
эпохи сталинизма, определила мужской идеал, характерный для
периода оттепели. Хотя он не всегда совпадал с реальным
самоощущением советских мужчин, с ним считались и на него
равнялись. Реконструируя образ маскулинности в послевоенном СССР,
автор привлекает обширный иллюстративный материал. Клэр И. Макколлум — британский историк, преподавательница Эксетерского университета (Великобритания).
Судьба Нового человека.Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре, 1945–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, можно считать, что изображение революции и Гражданской войны в конце 1950‐х годов делилось на два основных стилевых направления. С одной стороны, это творчество таких художников, как Моисеенко, Индулис Заринь, Виктор Шаталин и Гелий Коржев с его известнейшим триптихом «Коммунисты» [110], — в центре внимания этих авторов оказывались возбужденность и яркость революционной борьбы. С другой — работы Котлярова и Ткачевых, которые продолжали эмоционально сдержанный тренд, обнаруживаемый в картинах о Великой Отечественной войне, и отображали военную тематику в миролюбивом ключе. Именно в этих произведениях можно увидеть сходство с появившимся сразу после войны способом изображения мужской гомосоциальности, когда подлинные события войны и солдатская героика ослаблялись акцентом на отдыхе и комфортной близости людей друг к другу. Однако общим свойством обоих подходов к такому определяющему периоду советской истории, как революция, было подчеркнутое отсутствие насилия. Как отмечал А. Кантор в своей оценке Всесоюзной выставки 1957 года в относительно либеральном художественном журнале «Творчество», тогдашние изображения революционной эпохи представляли собой «жанр „романтических воспоминаний“ о том, что художники не видели или по меньшей мере не могли помнить», поэтому в памяти эпохи оттепели о тех суровых испытаниях не находилось места для крови, грязи и смерти [111].
Но могло ли к этому исключительно идеализированному представлению о советском прошлом добавиться нечто большее, чем просто взгляд сквозь розовые очки и избирательная память? Чтобы разобраться, почему именно такой тип репрезентации войны обнаруживается в начале хрущевской эпохи, нужно не ограничивать наше рассуждение рамками событий в художественном мире и попытаться понять, как изменилось место человека в обществе примерно за предшествовавшее этому периоду десятилетие. За сорок лет, прошедших после революции, социальная роль мужчины изменилась, и зачастую это происходило параллельно с трансформацией представлений о роли семьи в советской жизни.
Маскулинность (кто-то даже будет говорить о гипермаскулинности) периода первых лет революции была выраженно воинственной. В борьбе за советскую утопию успех был гарантирован только Новому советскому человеку. Поэтому, помимо собственно победы красных, в военных терминах формулировалось все, что угодно, — от механизации рабочего места и индустриализации, искоренения неграмотности и рационализации общества до идеалов всемирной революции и уничтожения буржуазии. Эту мобилизацию общества можно рассматривать в параллели с советскими нападками на семейную ячейку: как предположил один литературовед, «когда семья и женственность оказались в опале [поскольку ассоциировались с интеллигенцией и буржуазией], построение нового мира стало по определению мужской задачей», в центр которой было помещено «производство, а не воспроизводство» [112].
К социальной динамике семьи и в особенности к месту в ней мужчины мы более подробно обратимся в главах IV и V. Здесь же в контексте проблемы товарищества важно осознать то, каким образом риторика революционной эпохи в рассматриваемое время формировала представление об идеальном мужчине и его отношениях с обществом. И в декларациях, и на практике (благодаря законодательным актам наподобие нового Семейного кодекса 1918 года) революция преподносилась как разрушитель патриархального порядка. Строгие вертикальные связи между государством и людьми были разорваны в клочья и заменены идеалом пролетарского общества равных — обществом братьев, а не прежней имперской или капиталистической моделью отцов и сыновей. Эдвард Саид в своей работе «Мир, текст и критик» продемонстрировал аналогичную тенденцию в западной литературе периода fin de siècle, когда традиционные семейные (филиативные) связи размывались под давлением модерна и на смену им тотчас же приходили скрепы, выходившие за рамки биологической связи (аффилиативные):
Если филиативные отношения скреплялись естественными связями и естественными формами власти, <���…> то новые, аффилиативные, отношения приводят к тому, что эти связи превращаются в нечто оказывающееся трансперсональными формами, такими как корпоративное сознание, консенсус, коллегиальность, профессиональное уважение, класс и гегемония господствующей культуры. Филиативная схема принадлежит владениям природы и «жизни», тогда как аффилиация относится исключительно к культуре и обществу [113].
Предложенная Саидом схема замещения филиативных связей аффилиативными не относится к теме нашего исследования, но имеет особую значимость для советского дискурса, в котором разрушение традиционной семьи происходило не просто в силу требований современной жизни, но было целью, активно преследуемой государственной политикой. Именно в этом контексте можно оценить связь между товарищескими узами, взаимодействием между маскулинными идеалами и нападками на институт семьи в ранний советский период.
И все же, несмотря на то, как художники 1950‐х годов могли изображать раннесоветскую эпоху в своих работах, они не жили в социуме, в котором поддерживалась та же гендерная динамика, что и в 1920‐х годах — напротив, они принадлежали к обществу, которое, пусть и не было менее маскулинизированным, чем предшествующее ему, но определенно было менее милитаристским по своему мироощущению. Это утверждение может прозвучать странно, учитывая так называемую гонку вооружений во время холодной войны, — в этом отношении милитаризм оставался ключевой составляющей социальной топографии. Но, в отличие от революционной эпохи, милитаризм больше не использовался в качестве системообразующей метафоры всего социума. К аспектам этого феномена также относятся меняющиеся отношения к семье: взаимосвязь между маскулинностью и семьей испытывала масштабное воздействие таких событий, как криминализация абортов и другие изменения в семейной политике, произошедшие в 1936 году [114], принятие Семейного кодекса 1944 года, и, конечно же, травм самой войны. К середине 1950‐х годов официальная риторика претерпела еще один сдвиг: отныне делался акцент на духовном возрождении и семейной жизни, а идеалы ленинизма ретроспективно переформатировались так, чтобы соответствовать этой более «домашней» версии советского общества.
Таким образом, несмотря на искушение рассматривать приведенные выше воплощения военного товарищества в отрыве от социального контекста, необходимо помнить, что эти картины создавались в то же самое время, что и огромная масса изображений и плакатов, дававших куда более «одомашненное» и сконцентрированное на семье представление о советской маскулинности. Все это контрастирует с работами, появлявшимися в период революции и Гражданской войны, основанными на эпической борьбе, происходящей на расстоянии вытянутой руки, и в силу этого неприкрыто воинственными по тональности и по представлению о социальных отношениях. Изменение маскулинного идеала, происходившее в хрущевскую эпоху с целью закрепления за мужчинами активной роли в семье, вероятно, в той или иной степени объясняет эту продолжавшуюся романтизацию военного братства, несмотря на появление определенной свободы в освоении прежде запрещенных тем. Мужчина-воин, служивший главным героическим образцом предшествующих четырех десятилетий, не соответствовал мироощущению послесталинского общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: