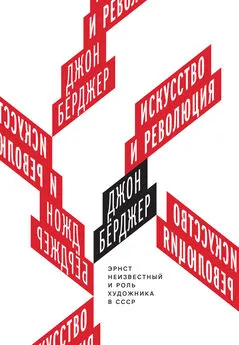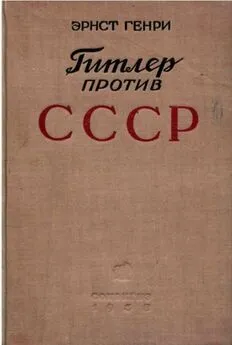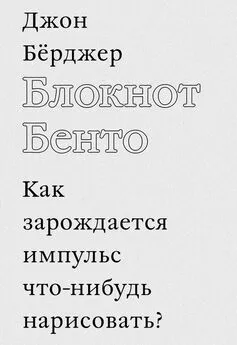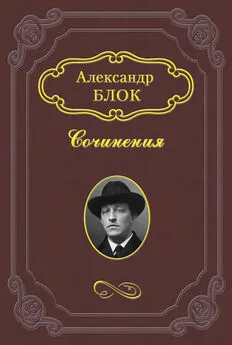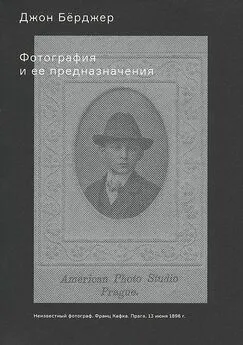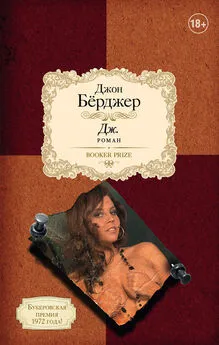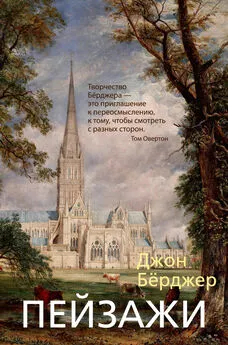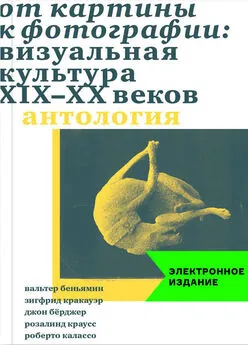Джон Бёрджер - Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР
- Название:Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91103-420-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Бёрджер - Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР краткое содержание
Искусство и революция. Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Работы Малевича, Лисицкого, Кандинского, Татлина, Певзнера, Родченко существенно отличаются друг от друга по духу. На одном полюсе Татлин отрицал различие между искусством и любой другой производственной деятельностью; на другом Кандинский доказывал, что настоящее искусство следует только загадочной и идеалистической «внутренней необходимости». Однако, несмотря на все различия, этих художников объединяла одна установка, и в тот период именно ее можно назвать типично русской. Все художники твердо верили в сильнейшее воздействие искусства на личное и общественное развитие, в социальную роль искусства. Однако их социальное сознание было скорее утверждающим, чем критическим. Они уже видели себя представителями освобожденного будущего. Это освобождение означало стирание всех различий между классами, профессиями, дисциплинами и бюрократическими преградами прошлого. Произведения русских авангардистов, подобно распашным дверям, соединяли одну деятельность с другой: искусство с техникой, музыку с живописью, поэзию с дизайном, живопись с пропагандой, фотографию с книгоизданием, диаграммы с практикой, мастерскую с улицей и т. п.
Идеологически особняком стоял Кандинский, но вот что он позднее писал о чувствах, которые испытывал, работая в Германии в начале 1910-х годов:
Мне не давало покоя порочное отделение одного вида искусства от другого и, более того, «искусства» от народного и детского искусства, от «этнографии», возводившее прочные перегородки между тем, что я считаю связанными или даже идентичными проявлениями, словом – синтетическими отношениями. Сегодня может показаться странным, что долгое время я не мог найти ни соратников, ни средств, ни просто достаточного интереса к этим идеям [6] Das Kunstblatt. XIV. 1930. S. 57 (из статьи «„Синий всадник“: взгляд назад»).
.
Многое из созданного или задуманного около 1917 года было утеряно. Многое оказалось недолговечным.
Однако уцелевшие конструкции и картины тех лет; само понятие художника-инженера; политехническое обучение и исследовательские программы, разработанные Кандинским (сначала в Москве, а позже для Баухауса в Германии); поразительные по новизне и формату книги и плакаты; образцы соединения поэзии и визуальных образов; такие образцы идеограмм, как «Клином красным бей белых!» Лисицкого; эскизы монументов, которые так никогда и не были возведены из-за нехватки ресурсов; сценография в театре Мейерхольда; отчеты агитационных поездов, в которых художники разъезжали по стране, чтобы графически и словесно объяснять, что происходит в стране и что необходимо предпринять; оригинальные эксперименты с выставочными техниками; художественное оформление публичных праздников, например инсценировка революции в октябре 1918 года перед Зимним дворцом; экстремизм таких художников, как Татлин, который, столкнувшись с насущными для страны проблемами выживания, оставил искусство, чтобы направить свой ум и визуальный опыт на изготовление печей (максимум тепла при минимуме топлива); энергия, стягивающая и разрывающая стихи Маяковского:
В диком разгроме
старое смыв,
новый разгромим
по миру миф.
Время-ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.
В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Всё
на радость
нашим
глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей [7] Из поэмы «150 000 000» (1919–1920).
,
– всё это, воспринятое как угроза одними и как освобождение другими, возвестило остальной Европе, что в грядущем мире роль художника станет совсем другой.
Некоторые из «левых» теорий легко обвинить в чрезмерном упрощении. Художник-инженер – всего лишь одна из разновидностей художника, бывают еще и художники-философы. Произведения искусства и машинные изделия – строго говоря, не одно и то же. Однако в контексте того времени переоценку роли машин легко понять; идея индустриализации вызывала восторг: казалось, она предоставляет возможность перешагнуть через целый исторический период, вместо того чтобы терпеть и страдать. Та же восторженность слышится в лозунге Ленина «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».
Пророческое ви́дение было важнее левых преувеличений. Кубисты разрушили существовавшие ранее формальные выразительные средства в искусстве – внутренние категории картины или скульптуры. Левые продолжали разрушать более широкие категории, разделявшие различные виды искусства и обособлявшие художника и публику. Никогда прежде художники не жили и не работали так, как тогда. На их фоне профессиональные живописцы и скульпторы (профессиональные в смысле принадлежности к одной из свободных профессий среднего класса) стали казаться такими же отставшими от своего времени, как представители богемы fin-de-siècle [8] Конца века ( франц. ). – Примеч. пер.
или artiste maudit [9] Прóклятый художник ( франц. ). – Примеч. пер.
:
Это что – корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осоловелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времен
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты! [10] Из стихотворения В. В. Маяковского «Приказ по армии искусства» (декабрь 1918).
Их ви́дение критиковали за наивную отдаленность от социальной действительности.
Какой смысл мог усмотреть крестьянин с деревянной сохой в татлинском памятнике Третьему интернационалу? Большинство советских людей были крестьянами с крайне низким уровнем культуры. Что означало существование Третьего интернационала – даже безотносительно к любому памятнику – для такого крестьянина? Люди часто склонны ожидать от художника волшебного решения проблем, которые решаются увеличением числа фабрик, школьных учителей, дорожных рабочих, радиоинженеров и т. д.
Будь радиостанция Габо построена, монумент Татлина скорее обрел бы смысл.
Всегда существует опасность того, что относительная свобода искусства сделает его бессмысленным. Но та же свобода позволяет искусству, ему одному, выразить и сохранить глубочайшие ожидания времени. Человеку свойственно ожидать большего, чем он может незамедлительно достичь. Его ожидания всегда связаны с необходимостью, но необходимое не следует путать с безотлагательным.
Искусство имеет дело только с тем, что есть, и в силу обостренности своего ви́дения извлекает из настоящего образ будущего, выражающий суть того, что должно быть, – если это извлечение произведено правильно [11] O’Connor Ph. Journal (готовится к печати в издательстве Jonathan Cape, Лондон).
.
Интервал:
Закладка: