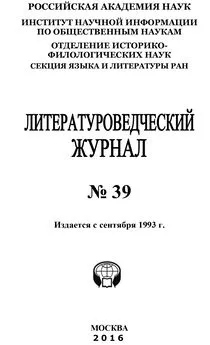Коллектив авторов - Литературоведческий журнал №39 / 2016
- Название:Литературоведческий журнал №39 / 2016
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Литературоведческий журнал №39 / 2016 краткое содержание
Рукописи представляются в редакцию в печатном и электронном виде. К тексту статьи прилагаются: краткая аннотация на русском и английском языках и список ключевых слов, а также справка об авторе с указанием ученой степени, должности, места работы и контактной информации. Публикуемые рукописи рецензируются. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Номер журнала к 200-летию смерти Г.Р. Державина (1743-1816) включает статьи по отдельным аспектам творчества писателя, а также особенностям историко-культурного контекста эпохи.
Для литературоведов, культурологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Литературоведческий журнал №39 / 2016 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заимствуя термин русской мифологической школы, мы можем сказать, что трактат Державина имеет «слоевой состав» – и прежде чем обсуждать степень оригинальности державинской теории, мы попробуем представить ее хронологический срез, распределив составляющие ее концепты по эпохам.
Античность
Выявляя античный поэтологический пласт в тексте Державина, мы должны в первую очередь отметить исключительно важную для него (о чем еще пойдет речь ниже) идею живописности лирики, создающей «блестящие, живые картины» (с. 548). Эта идея, без сомнения, восходит к горацианскому топосу «ut pictura poesis», который, варьируясь, проходит через всю историю европейской поэтики: так, ренессансный теоретик, Лодовико Дольче, определит «стихи и слова» как «кисть и краски поэта, которыми он наносит тени и цвета на полотно своего изобретения, чтобы создать столь удивительный портрет природы…» 8 8 Dolce L. Osservationi nella volgar lingua (1550). Цит. по: Weinberg B. A history of literary criticism in the Italian Renaissance. 2 vol. – Chicago: Chicago University Press, 1961. – Vol. 1. – P. 127.
; Филип Сидни (в начале «Защиты поэзии») называет поэзию «говорящей картиной (a speaking picture)»; немецкий теоретик и поэт XVIII в. Иоганн Бурхард Менке в латинской диссертации «О приятном» (1734) отмечает, что «поэт, как и художник, имитирует природу, и вполне уместно назвать, вместе с Флакком, поэзию картиной» 9 9 Цит. по: Lempicki S. von. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. – Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1920. – S. 240.
, и т.д.
Едва ли не самую знаменитую формулировку этой же мысли дает римская «Риторика к Гереннию»: «Стихотворение должно быть говорящей картиной, картина – молчащим стихотворением (poёma loquens pictura, pictura tacitum poёma debet esse)» (IV, 39). Отголосок этой формулы находим у Державина: «Поэзия по подражательной своей способности не что иное есть, как говорящая живопись» (с. 563).
Отметим еще две реминисценции из поэтики Горация, воспринятой, возможно, через тексты-посредники. Лирическая поэзия, «забавляя, так сказать, просвещает царства» (с. 567) – отголосок совета смешивать «приятное с пользой (utile dulci)» (v. 343); рецепт успеха лирика – «проливай слезы, и будут плакать» – восходит к совету Горация «si vis me flere, dolendum est» («если хочешь, чтобы я плакал, нужно [самому] печалиться») (v. 102), который Державин, впрочем, мог почерпнуть и у следующего за Горацием Буало («Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez» – «Поэтическое искусство», III, 142).
Идея цивилизаторской функции лирической поэзии (народы «самую дикость свою оставили и начали собираться в общества не чрез что другое, как чрез пение и лиру», с. 517; «почти все древние вожди и законодатели… были поэты и законы свои изрекали стихами», с. 567) – также горацианская по своим истокам («Первым диких людей от грызни и от пищи кровавой / Стал отвращать Орфей, святой богов толкователь…»; именно поэты стали «законы писать на скрижалях», v. 391–399, перевод М.Л. Гаспарова), но варьировавшаяся и дополняемая поэтологами на протяжении многих веков, особенно в эпоху Ренессанса.
Античные истоки имеет также идея декорума – в державинской терминологии, «приличия»: «каждая мысль», «каждое чувство должны быть одеты «им приличным тоном» (с. 570); «указатель приличия» – «вкус» (с. 571). Идея декорума разрабатывается в риторике, где связывается с идеей правдоподобия; эта связка понятий переходит в литературную теорию классицизма: правдоподобие достигается лишь приличествующим соотношением между предметом и стилем, стилем и жанром, характером и поступком и т.п. Эта связь удерживается и у Державина: «Правдоподобие состоит в том, чтобы собраны были все приличия и принадлежности к воспеваемому предмету в пособие, дабы ему чрез них казаться более вероятным» (с. 545).
К поэзии идею декорума применил Гораций, который не использовал само это слово, но ясно обозначил тему «приличия», когда определил свою задачу – показать, «что приличествует, что нет (quid deceat, quid non)» (v. 308). Нарушение литературного приличия, по Горацию, вызывает смех: «Весь народ начнет хохотать – и всадник и пеший» (v. 113; перевод М.Л. Гаспарова). Та же реакция на нарушение декорума – и у Державина: «…неприличная разнообразность будет пестрый шутовской наряд, смех в благоразумном читателе произвести могущий» (с. 541).
Античные поэтологические топосы, фигурирующие в тексте Державина, изначально относились не к лирике, но к поэзии вообще или к ее отдельным (нелирическим) родам. Так, горацианское «si vis me flere, dolendum est» относилось к драматическому искусству, к исполнению роли трагическим актером. Державин переориентирует эти топосы на лирику – и в этом он не всегда оригинален. Горацианскую формулу применяет к лирической поэзии Ф. Клопшток, используя ее как аргумент против теории Баттё о лирике как подражании «чужим» чувствам: «Баттё, следуя за Аристотелем, на самых сомнительных основаниях связал сущность поэзии с подражанием. Но тот, кто поступает в соответствии со словами Горация “Если ты хочешь, чтобы я заплакал, то печалься сам” – разве он просто подражает? Когда он всего лишь подражал, я не заплачу. Он должен был быть на месте того, кто страдал; он должен был сам перестрадать . (…) Требовать от поэта одного лишь подражания – значит превращать его в актера… И, наконец, тот, кто описывает собственную скорбь! Он подражает сам себе?» 10 10 Klopstock F.G. Gedanken über die Natur der Poesie (1759) // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. – S. 285–286.
То же относится и к принципу правдоподобия, довольно неожиданно примененному Державиным к лирике. Однако о правдоподобии в оде писал уже Иоганн Иоахим Эшенбург: «Ода также требует определенного правдоподобия (Wahrscheinlichkeit), или относительного соответствия между ее предметом и возбуждаемыми им чувствами, представлениями и образами» 11 11 Eschenburg J.J. Die lyrische Poesie (1783) // Lyriktheorie. Texte vom Barock bis zur Gegenwart / Hrsg. von L. Völker. – Stuttgart, Reklam, 1990. – S. 107.
.
Теория лирики, стремительно развивающаяся во второй половине XVIII в., втягивает в свою орбиту поэтологические топосы, которые прежде с лирикой ассоциировались слабо или не ассоциировались вообще. Державинская теория – часть этого процесса.
Ренессанс
«Поэзия – язык богов, голос истины, пролиявшей свет на человеков» (с. 567). Мысль о божественной природе поэзии можно было бы, конечно, связать с античной традицией: поэт одержим богом (музами) уже у Платона. Однако у Державина божественность поэзии связана с ее истинностью, что едва ли приемлемо для Платона, но зато характерно для позднесредневековых и ренессансных гуманистов. Упомянем лишь первого в их ряду – Альбертино Муссато. Е.В. Лозинская следующим образом характеризует его воззрения на поэзию: «Согласно Альбертино, поэзия происходит из божественного источника (…) и имеет свой закон в Боге…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: