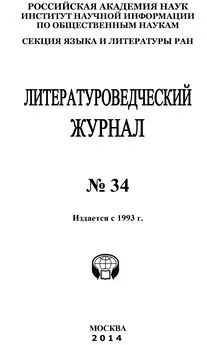Коллектив авторов - Литературоведческий журнал №34 / 2014
- Название:Литературоведческий журнал №34 / 2014
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Литературоведческий журнал №34 / 2014 краткое содержание
Рукописи представляются в редакцию в печатном и электронном виде. К тексту статьи прилагаются: краткая аннотация на русском и английском языках и список ключевых слов, а также справка об авторе с указанием ученой степени, должности, места работы и контактной информации. Публикуемые рукописи рецензируются. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В журнале публикуются статьи, посвященные крупнейшим западным литературоведам, формированию в первой половине – середине XIX в. новых научных направлений и художественных методов, теорий литературных родов и жанров.
Для литературоведов, историков европейской культуры, преподавателей вузов.
Литературоведческий журнал №34 / 2014 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В то же время исследования показывают, что «Погасло…» обнаруживает многостороннюю связь с русской элегической школой и прежде всего с поэзией К. Батюшкова. Более того, по мнению О. Проскурина, речь в данном случае должна идти не просто об отдельных заимствованиях, но о «выделенности, рекурентности темы Батюшкова», о прямой ориентации пушкинского стихотворения на батюшковскую поэтическую систему как целое. В понимании исследователя, именно Батюшков – истинный и единственный предмет подражания Пушкина, а отсылка к Байрону – не более чем мистификационный жест, факт более поздней самооценки поэта 3 3 Проскурин О . Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. – М.: НЛО, 1999. – С. 56–67.
.
Вопрос, таким образом, ставится достаточно категорично: или байронизм, или представительствуемая Батюшковым элегическая традиция.
Прежде всего заметим, что никто из современников не отреагировал на активизацию батюшковского контекста – вряд ли это было чем-то неожиданным и принципиально новаторским, зато сразу же были отмечены неожиданные повороты лирического сюжета, которые связывали с влиянием именно Байрона.
Пушкинская элегия – произведение многоплановое, и это, на наш взгляд, позволяет говорить о свого рода «метасюжете». Однако суть этого «метасюжета» мы бы определили не как «адаптация» батюшковской элегической системы, а как встреча, диалог элегической поэтики и байронического комплекса. Постараемся это показать.
Центром, структурирующим художественный мир пушкинской элегии, является событие воспоминания . Не случайно стих «Воспоминаньем упоенный…» отчетливо выделен в строе стихотворения синтаксически и особенно – ритмически. Пушкин использует достаточно редкую для начала ХІХ в. ритмическую вариацию ямба (vvv-vvv-v), которая ощутимо выделяется на фоне обычных стихов. Пропуск ударений на первой и третьей стопах создает, с одной стороны, эффект значимого замедления темпа, а с другой – энергетического усиления ударных слов и прежде всего ключевого слова – «воспоминанье». Ритмическая «курсивность» этого стиха особенно очевидна в сравнении с более нейтральным первым вариантом этой строки, который представляет собой наиболее распространенную форму ямба (v-v-vvv-v):
Сердечной думой упоенный 4 4 Пушкин А.С . Полн. собр. соч: В 17 т. – М.: Воскресенье, 1994. – Т. ІІ (кн. 2) – С. 573.
.
«Воспоминанье» семантически не просто конкретнее «думы» (дума о прошлом), но жанрово выразительнее, «элегичнее» что ли. Указанный стих усиливает ассоциативный жанровый фон, настраивая на определенные ожидания.
Весь строй пушкинского стихотворения (экспозиционный пейзаж, знаковое время суток, насыщенность элегическими формулами), в полном соответствии с законами элегической поэтики, направлен на то, чтобы «включить» «механизм памяти». Именно так организована элегия Батюшкова «Тень друга», на которую непосредственно ориентировано «Погасло…».
В стихотворении Батюшкова лирическое «я», как бы растворяясь в туманном мире, постепенно погружается в «сладкую задумчивость»:
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов…
И далее:
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил…
Лирический герой Батюшкова покидает «туманный берег Альбиона». Мечты о родине оживляют в его памяти образ погибшего друга:
Вся мысль моя была воспоминанье
Под небом сладостным отеческой земли <���…>
И вдруг… то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне… 5 5 Батюшков К.Н . Опыты в стихах и прозе. – М.: Наука, 1977 – С. 222.
Обратим внимание на то, что объект, к которому устремляется герой, и субъект, о котором он «воспоминает», здесь не контрастируют, а, так сказать, «единонаправленны», обращены друг к другу, стремятся к воссоединению, независимо от того, их разделяет пространственная, временная или какая-нибудь другая граница. Элегический герой «воспоминает» то, что ему особенно дорого, с чем он связывает свои надежды и мечты, или то, что он хотел бы вернуть. Именно поэтому воспоминания чаще всего оживают в ситуации возвращения, в преддверии чаемого, желаемого соединения, даже если это оказывается лишь «мечтою».
Именно возвращением в дорогие и памятные места навеяны воспоминания в пушкинской незавершенной «Элегии» (1819):
Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный 6 6 Пушкин А.С. Указ. соч. – Т. ІІ (кн. 1) – С. 72.
.
В элегии «Погасло дневное светило…» развертывающийся лирический сюжет, на первый взгляд, вполне соответствует традиционной схеме: «Я вижу берег…» – «Туда стремлюся я, / Воспоминаньем упоенный…». Естественно ожидать, что «воспоминанье» навеяно приближением героя к желанной цели, к «волшебным краям полуденной земли». Но далее следует неожиданное и резкое расподобление объекта устремления и объекта воспоминания:
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей… 7 7 Там же. – С. 135.
Предметом «воспоминанья» лирического героя оказываются не «волшебные края полуденной земли», но «туманная родина». Кстати, именно эти стихи П. Вяземский отметил как явную «байронщизну».
Это композиционное «фуэте» является своеобразной радиантной точкой, векторы от которой расходятся как перспективно, направляя лирическое движение в новое русло, так и ретроспективно, заставляя по-иному оценить исходную ситуацию.
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…
Лирический герой Пушкина устремлен вперед, к «пределам дальным», но мысленно обращен назад, к прошлому, причем интенсивное пространственное удаление лишь усиливает горечь и драматизм ситуации. Сквозь элегическую топику начинает отчетливо прорастать мотив бегства:
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений…
Следует, однако, отметить, что мотив странствия, удаления от жизненных сует и пороков света на лоно природы, в частную жизнь является устойчивым элегическим мотивом. И его семантика всецело определяется преромантической системой ценностей, в которой категория памяти всегда, даже при нарастающем трагизме мироощущения, сохраняет безусловную онтологическую значимость.
У Батюшкова в «Тавриде», например, призыв «сокрыться» соотносится с движением «навстречу», а не «прочь» – навстречу мечте, желанному идеалу:
Друг милый! ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают… 8 8 Батюшков К.Н. Указ. соч. – С. 167.
Интервал:
Закладка: