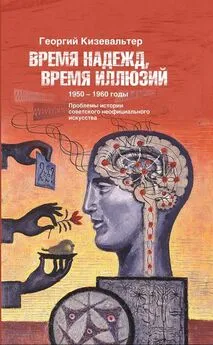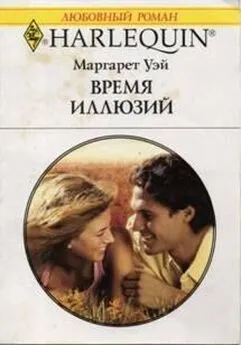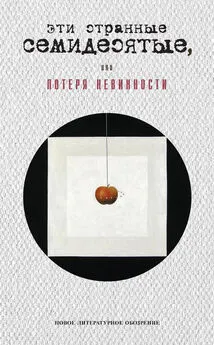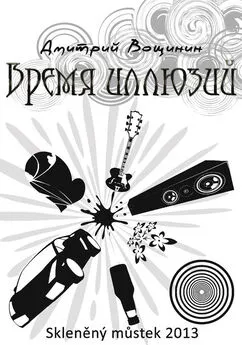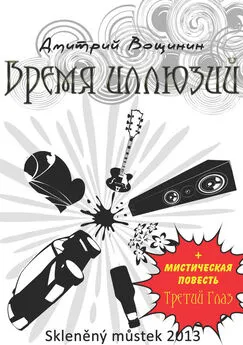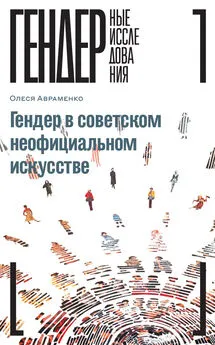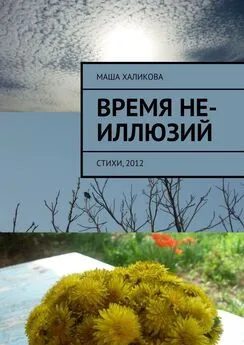Георгий Кизевальтер - Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
- Название:Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-4448-0886-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Кизевальтер - Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы краткое содержание
Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кроме того, мне присылали с Запада пластинки и магнитофонные пленки с записями современной музыки, прежде всего классической, то есть Барток, Хиндемит, Стравинский, а также Булез и Штокхаузен. Эти сочинения мы тоже внимательно изучали.
Но кончилось все это печально, потому что в Министерстве культуры узнали, что собирается некий кружок, где изучают современную западную классику, и, естественно, нас разогнали. А поскольку я работал тогда дирижером Государственного симфонического оркестра Украины, меня с моей должности уволили.
После этого меня пригласили на работу в Ленинградскую филармонию, и в 1963 году я переехал в Ленинград.
Г. К.: Скажите, вам знакомо такое имя – Приберг?
И. Б.:Конечно! Поскольку я переписывался с Штокхаузеном, Приберг по рекомендации Штокхаузена, с которым он дружил, обратился ко мне, и между нами возникла очень активная переписка. Его интересовали сочинения молодых украинских композиторов, прежде всего Сильвестрова, и я стал посылать ему ноты, а он организовывал в Германии исполнение этих произведений. Таким образом, благодаря Прибергу Сильвестрова узнали в Европе. Кроме того, у Приберга есть очень известная книга о советской музыке [10], где тоже много информации о молодых украинских композиторах.
Г. К.: Интересно, а я обнаружил его имя в публикации на тему современной музыки в СССР в газете Die Zeit 1963 года, где он перечислил украинских авангардистов: Валентина Сильвестрова, Игоря Блажкова, Леонида Грабовского и Владимира Губу.
И. Б.:Верно, Губа тоже был членом нашего кружка.
Г. К.: А сами вы не сочиняли музыку?
И. Б.:Нет, никогда.
Г. К.: Любопытно, как вы установили первые контакты с западными композиторами, живя в Киеве? К примеру, как вы познакомились с Штокхаузеном?
И. Б.:Я просто написал ему письмо. Мне тогда присылали знаменитый немецкий журнал «Мелос», освещавший проблемы современной музыки, и там была реклама сочинений Штокхаузена и издательства, где он печатался, – а это было Универсальное издательство в Вене, Universal Edition, и я написал ему письмо на адрес издательства.
Г. К.: Расскажите теперь о Ленинграде, пожалуйста. Как я слышал, атмосфера там была свободнее, чем в Киеве?
И. Б.:Конечно, безусловно. В Киеве, хотя я работал дирижером, мне не разрешали и даже запрещали исполнять музыку современных композиторов. Даже в случае с таким сравнительно невинным симфоническим сочинением, как «Симфонические фрески» Грабовского по Пророкову, – уже была объявлена премьера, афишный концерт в Киеве с этим сочинением, – но после первой же репетиции оркестранты побежали в дирекцию и потребовали это сочинение изъять из программы, и оно было снято.
А когда я переехал в Ленинград, я увидел, что атмосфера там совсем другая. Во-первых, еще до своей постоянной работы в Ленинградской филармонии я уже исполнил «Симфонические фрески» Грабовского, и они были очень тепло встречены музыкантами; ничего такого, как в Киеве, там не произошло.
Понемногу я стал исполнять там сочинения и других композиторов-авангардистов; в частности, помимо Сильвестрова, исполнялись сочинения Волконского, Эдисона Денисова, а также Веберна, Вареза, Айвза, Берга… Я работал в Ленинградской филармонии пять лет, и на протяжении всех пяти лет произведения этих авторов звучали в моих концертах.
Но под конец этого периода Министерство культуры СССР по доносу прислало комиссию по проверке репертуара Ленинградской филармонии. Комиссия выписывала из всех программ «неугодные сочинения», и против каждого сочинения стояла моя фамилия. Была созвана коллегия Министерства культуры СССР, которую возглавила Фурцева, с осуждением репертуарной политики Ленинградской филармонии, в результате чего я был оттуда уволен.
После этого я опять вернулся в Киев, где возглавил Киевский камерный оркестр. Вот такая получается биография тех лет.
Г. К.: А как вам кажется, по сравнению с 1960‐ми в 1970‐е годы произошло ухудшение или улучшение свободы исполнительства и творчества?
И. Б.:В 1970‐е стало легче. В Киевской филармонии я исполнял в эти годы сочинения Сильвестрова и Шёнберга, «Три пьесы из лирической сюиты» Берга, симфонию и пять пьес Веберна. Единственное, что не разрешили мне сыграть, это сочинения Волконского. Из Киевской филармонии на всякий случай позвонили в Москву, а он в 1970‐е уже был там запрещен к исполнению, и Киеву тоже не рекомендовали исполнять его сочинения.
Г. К.: Как я понял, для вас большое значение имел Сильвестров, а кто еще из композиторов был важен в вашем репертуаре?
И. Б.:Из тех композиторов, которые мне наиболее близки своей цельностью, помимо Сильвестрова, это, конечно, Андрей Волконский. Я играл его сочинения, еще проживая в Ленинграде.
Г. К.: А из эстонских композиторов вы исполняли когонибудь?
И. Б.:Из эстонских композиторов я играл Пярта, и то лишь его ранние сочинения, достаточно безобидные – вариации на тему Баха и т. п.
Г. К.: Это был ваш собственный выбор или кто-то запрещал исполнять его вещи?
И. Б.:Нет, это был мой собственный выбор.
Г. К.: Если рассматривать три центра современной музыки в 1960‐е годы – Киев, Ленинград, Москва, кто из них играл, на ваш взгляд, самую радикальную роль?
И. Б.:Без сомнения, Москва и Киев.
Г. К.: Насколько важными оказались связи с западными композиторами для вас лично, а также для советской новой музыки вообще?
И. Б.:Связи были важны хотя бы тем, что я получал большое количество нот из Европы, в частности Веберна, и многие авторы копировали их у меня. Кроме того, я получил полную антологию творчества Веберна на пластинках, и их тоже копировали. Это все имело огромнейшее влияние. В частности, Гия Канчели по сей день вспоминает, что для него главную роль в эволюции его творчества сыграли записи сочинений Веберна.
Г. К.: Вот теперь самое время спросить, что вы думаете о самостоятельности наших композиторов? Насколько они были оригинальны?
И. Б.:Вне всяких сомнений, и хотя в сочинениях Андрея Волконского ощущается некоторое влияние Веберна и Булеза, это композитор с очень яркой индивидуальностью, со своим собственным творческим лицом. То же я могу сказать о Сильвестрове, потому что еще то, что я сыграл в Ленинградской филармонии, – его «Спектры для оркестра» и «Камерная симфония № 2» – это совершенно самостоятельные сочинения, не похожие ни на один опус, созданный в западной музыке.
Г. К.: Какие самые значительные музыкальные события в 1960‐е годы вы могли бы назвать?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: