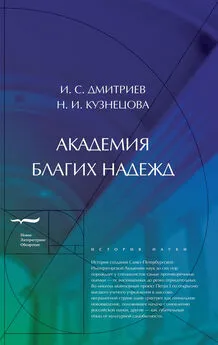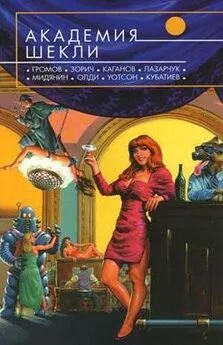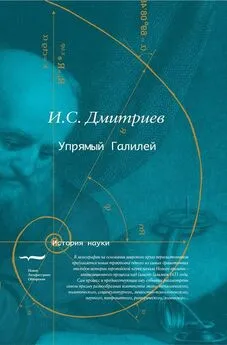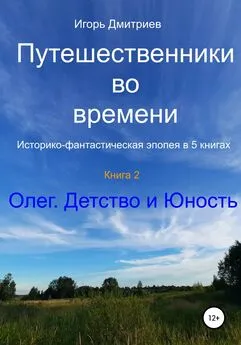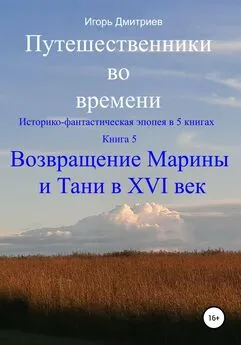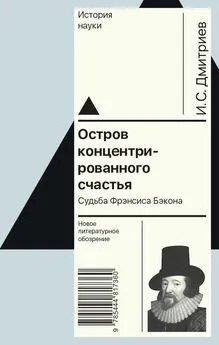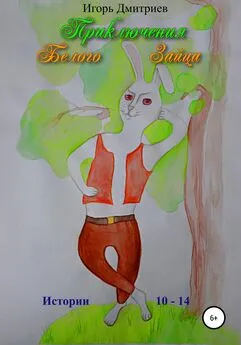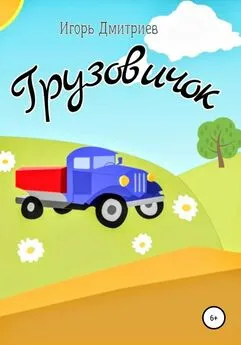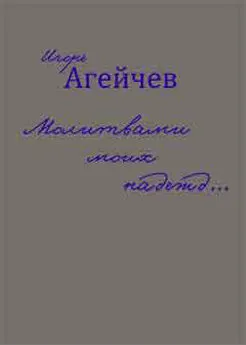Игорь Дмитриев - Академия благих надежд
- Название:Академия благих надежд
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1096-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Дмитриев - Академия благих надежд краткое содержание
Академия благих надежд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В многочисленных записках Лейбница обращает на себя внимание их преимущественно утилитарная направленность. И в этом позиции немецкого философа и русского царя вполне совпадали. Как заметил А. Ю. Андреев, «Лейбниц всячески подчеркивал практический характер образования», которое должно ввести в России. Так, «богословский факультет, по его мнению, должен готовить к миссионерству, юридический – к конкретной юридической практике, а также подготовке чиновников в области государственного права и международных отношений новейшего времени; медиков также следует готовить практически, в госпиталях и больницах, под надзором более опытных врачей…
В записках Петру университеты играют лишь подчиненную роль – они призваны готовить к службе, а главная отведена Академии наук, которая сосредотачивает в своих руках основные функции научного органа в государстве» [57].
Но и говоря об Академии, Лейбниц в первую очередь отмечает необходимость проведения не столько, как бы мы сегодня сказали, фундаментальных научных исследований в сфере физико-математических наук, сколько прикладных, направленных на удовлетворение государственных потребностей или же на сбор эмпирической информации, опять-таки имеющей то или иной прикладное значение (скажем, о фауне и флоре Сибири и других регионов или об отклонении магнитной стрелки компаса от линии меридиана, которым в то время пользовались в морской навигации для определения долготы). Именно поэтому его проекты и идеи привлекли внимание Петра. «Не материя сама по себе, – напишет с грустной иронией 200 лет спустя акад. П. И. Вальден, – а материя, встречаемая в России, составляла главную задачу исследования» [58].
Разумеется, Петр принял отнюдь не все, что ему предлагал Лейбниц. К примеру, последний полагал целесообразным учредить особую Коллегию народного просвещения, о чем писал практически во всех записках царю [59]. Вообще, околонаучной бюрократии посвящены самые вдохновенные абзацы Лейбницевых записок. Петру это импонировало, но в данном случае он поступил иначе: учредил не Коллегию народного просвещения, но – среди прочих – Берг- и Мануфактур-коллегии [60], которые проект Лейбница не предусматривал.
Разрабатывая свою концепцию введения наук в Россию, Лейбниц не забыл и о финансовой стороне дела. В одной из записок, подготовленной им к встрече с Петром в Торгау, немецкий философ оценил расходы на все предприятие в 10 тысяч талеров в год, т. е. около 7 тысяч рублей (1 талер в первой половине XVIII века равнялся примерно 70 русским копейкам) [61]. Что касается упомянутой выше ученой коллегии, функции и полномочия которой от одной Лейбницевой записки к другой все более разрастались [62], то, «чтобы она была в состоянии исполнять свою обязанность и удовлетворить его величество, не отягощая его казны» [63], Лейбниц рекомендовал дать ей разные привилегии: издание календарей и газет, ссудные и страховые кассы, лотереи, т. е. многое из того, что он в свое время проектировал в Берлине и что там, за исключением календарей и обработки шелка [64], не нашло воплощения.
Петр, насколько можно судить по дошедшим до нас документам, финансовую часть лейбницеанского проекта оставил без комментариев (даже если бы имелась возможность организовать в России Академию наук на принципах если не полной самоокупаемости – это уж совсем утопия! – но хотя бы с незначительными затратами, то такая Академия, независимая или слабо зависимая от власти, Петру была не нужна, ибо не вписывалась в его понимание «регулярного государства»).
В свое время, предлагая создать научное общество в Берлине, Лейбниц в переписке с курфюрстиной Софией Шарлоттой утверждал, что такое общество «не должно ничего стоить курфюрсту», поскольку оно должно «составить свой собственный фонд, который будет состоять только из некоторых уступок, сделанных курфюрстом с тем, чтоб ему это не стоило ничего кроме слов, и, следовательно, эти доходы могут быть только случайными». София Шарлотта, которая «чрезвычайно любила ученые прения и при этом удивляла всех ясностью своего суждения, особенно же своим тактом и гуманностью» [65], не без ехидства заметила по поводу идеи своего корреспондента организовать научное общество как доходное коммерческое предприятие: «Можно подумать, что вы хотите творить чудеса, управляя академией, которая ничего не будет стоить курфюрсту, хотя в нашем веке дешевые вещи вовсе не уважаются» [66].
Однако гораздо, на мой взгляд, важнее другое расхождение между немецким философом и русским царем: первый подразумевал под Академией не просто «социетет» ученых-иностранцев, но учреждение с большими полномочиями (см. выше), тогда как Петр создал нечто напоминающее отчасти Парижскую и Берлинскую АН, а отчасти Болонский институт (Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna), основанный в 1714 году герцогом Луиджи Фердинандо Марсильи (Luigi Ferdinando Marsigli; 1658–1730) [67]и объединявший в себе Академию наук, Академию живописи, скульптуры и архитектуры, музей, библиотеку, обсерваторию, анатомический театр и учебное заведение. Как с сожалением отмечает отечественный историк, учрежденная Академия «была только подражанием Парижской и Берлинской Академиям, „социететом персон, которые для произведения наук друг друга вспомогать имеют“» [68]. Так что проект практически действующей науки, в применении ее «к ремеслам, к мануфактурной деятельности и вообще к улучшению народного благосостояния» [69](того, что ныне называется «экономикой, основанной на знаниях»), так и остался нереализованным.
Вернемся, однако, к проектам Лейбница. Немецкого философа понять можно. Он исходил из того, что Россия в культурном отношении – tabula rasa , а это означало, что считаться с такими факторами, как национальные культурные традиции и т. п., не приходится. Ну какие традиции (адекватные задаче внедрения и распространения наук и художеств) могут быть у варваров? А между тем такое представление о России требует существенных оговорок. Авторы вступительной статьи к первому тому «Летописи Российской Академии наук» напоминают о некоторых реалиях допетровской эпохи: «В стране велось интенсивное городское строительство, совершенствовалось оружие в непрерывных войнах на Западе и на Востоке. Постепенно расширялись торговые и культурные связи с европейскими государствами. Русские дворцы возводились с применением самой совершенной для того времени строительной техники. На медеплавильных и доменных заводах, построенных на реках, работали такие же, как и в других странах, гидросиловые установки. Тульские домны даже превышали немецкие и шведские по высоте и суточному производству чугуна. Со второй половины XVII в. разведкой руд в стране стали заниматься государственные учреждения и экспедиции, посылавшиеся в самые отдаленные районы, вплоть до Крайнего Севера. Совершенствовалось и оружие. Вместо кованых железных орудий появились литые из меди и чугуна. Наряду с кустарным возникло и заводское производство пороха. Все это вело к совершенствованию эмпирических знаний в сочетании с народным опытом, накопленным веками, к постепенному заимствованию и усвоению практических достижений европейской науки» и т. д. Этот перечень можно продолжить, что и сделали авторы цитированного фрагмента, подытожив сказанное укоризной немецкому философу: «Россия к началу царствования Петра I, во всяком случае в отношении использования практических достижений европейской науки, отнюдь не была целиной или „чистой доской“, как самоуверенно утверждал Г. В. Лейбниц» [70].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: