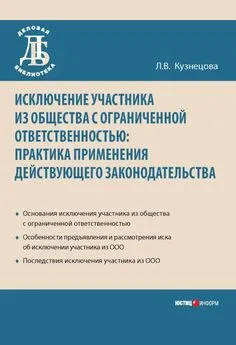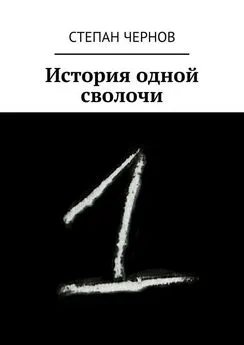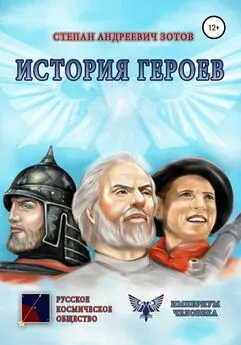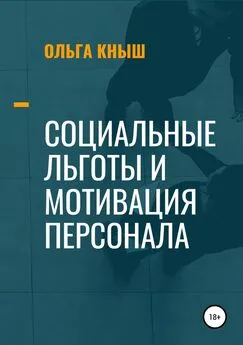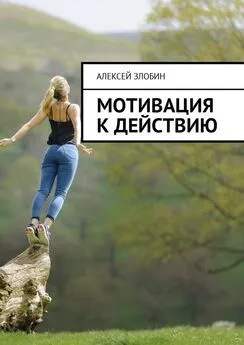Степан Козловский - История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц
- Название:История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
- Год:2009
- Город:Ижевск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Козловский - История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц краткое содержание
В монографии исследуется восточнославянский эпос. Основные проблемы исследования: возможности былин как научного источника, потенциально возможные пути совершенствования методологии исторического изучения эпических материалов, сравнительный анализ отражения социальной практики Древней Руси в былинах и письменных источниках, социальная эволюция образа эпического героя.
Книга адресована специалистам по истории Древней Руси, а также преподавателям, студентам и аспирантам, интересующимся проблемами изучения былин как научного источника.
История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уровень работ «исторического» направления приблизительно одинаков, разночтения встречаются несколько реже, чем в работах «мифологического» направления. Их исследования скорее уточняют друг друга, чем противоречат, за некоторыми исключениями, которые касаются попыток использования для объяснения ряда сюжетов некоторых положений теории заимствования (В. Ф. Миллером в частности). Эпическое отражение социальной практики в ряде случаев ими исследуется, но бессистемно и в основном лишь для пояснения отдельных эпических сюжетов.
М. Г. Халанский разбирал в своих работах те же вопросы, что и В. Ф. Миллер, делил героев по происхождению на богатырей дотатарского периода и тех, которые появились после татаро-монгольского нашествия. Он широко привлекал материалы украинских дум (об Ивасе Коновченко) и т. п. [184] Халанский М. Г. Великорусские былины Киевского цикла. — Варшава: 1885. — С. 45.
Работы М. Н. Сперанского по стилю и методике работы в рамках данного направления, мало отличаются от трудов А. М. Лободы и В. Ф. Миллера. Он также заявлял о начале изучения «литературных фактов» с социологических позиций. [185] Сперанский М. Н. История древней русской литературы. — С. 51.: «Изучая историю литературы, мы исследуем теперь не только историю литературного факта, но и смотрим на этот факт как на факт психологический, социологический.
Вместе с тем, его взгляд на формирование былин несколько обособляется от воззрений большинства представителей «исторического направления». Он считал, что: «сам процесс сложения былин сопровождался использованием уже существующих формул». [186] Сперанский М. Н. Русская устная словесность. — М.: 1917. — С. 216–217.
Это означает, что он отличал стиль создания былин от стиля исторических песен. Различие в стиле создания является признаком отличия социальной практики.
Наиболее часто в отношении «исторической школы» встречаются упоминания о работах В. Ф. Миллера и А. В. Маркова.
Значительное внимание было ими уделено поиску «исторических фактов» в русском эпосе. [187] См. также: Марков А. В. Бытовые черты русских былин. — М.: 1904. «Эпоха сложения русских былин — XII–XV вв.» — С. 95.
Благодаря этому стало ясно, что изображение быта (социальной среды) в былинах и летописях имеют очень много общего. [188] См. также: Марков А. В. Из истории русского былевого эпоса. — М.: 1905.
Однако аналогии, характерные для целых эпох, прикреплялись ими к конкретным историческим событиям, что вряд ли допустимо. В результате их деятельности очень остро встал вопрос о том, как именно соотносились летописная и былинная история. Решение было найдено в «социологическом» изучении эпоса. А. В. Марков отмечал, что:
«Делением былин на городские и богатырские проф. Миллер наметил вопрос о социальном положении слагателей былин; но в очерке „Русская былина, ее слагатели и исполнители“, специально посвященном авторам былин, он обращает внимание не столько на социальную среду, выдвигавшую певцов, сколько на их профессиональную окраску». [189] Марков А. В. Обзор трудов В. Ф. Миллера по народной словесности. — Пг.: 1916. — С. 21.
В. Ф. Миллер, обобщая проведенные исследования (он, в частности, полагал, что национализация чужих сюжетов происходит через внесение бытовых черт [190] Миллер В. Ф. Лекции по русской народной словесности. — М.: 1910. — С. 6.
), отметил следующие вопросы:
1) «Были ли наши былины искони слагаемы в низшем слое народа, или перешли к нему из другой среды?
2) Кто были слагатели и разносители?
3) Как объяснить исторические имена и нередко фантастическое содержание былин?
4) Как объяснить наличность былин только у великоруссов и отсутствие их среди современных малоруссов?
5) Какие былинные сюжеты относятся к более древним, а какие к более поздним временам?
6) Какие мотивы проникли в эпос из книжной литературы или из сказок?
7) В чем заключается техника былины?
8) Какие особенности в складе и языке их?»
Ни на один из этих вопросов однозначного и окончательного ответа в историографии нет до сих пор, хотя прошло уже около ста лет. Расхождения имели место не только при постановке исследовательских задач, но и в понимании эпоса как феномена культуры.
Ученые, принадлежавшие к «исторической школе», и В. Ф. Миллер в частности, предполагали невозможным решение основополагающей проблемы генезиса эпоса из-за неясного состояния изучаемого комплекса эпических произведений. Поэтому свою задачу они видели в том, чтобы исследовать так называемые «верхние» слои былин. Вскоре стало понятно, что в «верхних» слоях былины большое место занимают «конкретные исторические факты» в «идеально-обобщенной форме».
В результате деятельности по изучению эпоса стала актуальной «антиномия факта и его отражения» в былине. Вопрос затруднялся тем, что существуют записи «исторических песен», в которых конкретные исторические факты отражены в реальной форме, похожей на летописную традицию, иногда даже с упоминанием точных дат известных событий.
В. Ф. Миллер и его сторонники вышли из затруднительного положения тем, что игнорировали данную антиномию, заявляя о том, что былины лишь со временем приняли свой, соответствующий XVIII–XIX вв. вид, а до этого момента существовали как «исторические песни». [191] См. также: Свод русского фольклора в 25-ти томах. — Т. 1. — С. 75.
Они ставили целью нахождение такого «извода» былины, который максимально приближался бы к исторической песне по степени реальности сообщаемых фактов.
1.1.3 Эпосоведение в советский период
В первой половине XX в. сбор эпических материалов и анализ сведений о сказителях активно продолжался. С целью записи былин в 1926–1928 гг. была проведена крупномасштабная экспедиция «по следам П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга». Из числа исследователей-практиков советской эпохи наибольшую известность получили А. М. Астахова, [192] См. также: Астахова А. М. Былины Севера. — М.; Л.: — Т. 1: 1938; — Т. 2.: 1955.
Б.М. и Ю. М. Соколовы, [193] См. также: Соколов Ю. М., Чичеров В. И. Онежские былины. — М.; Л.: 1948.
В. И. Чичеров, Г. Н. Парилова, [194] См. также: Г. Н. Парилова, А. Д. Соймонов. Былины Пудожского края. — Петрозаводск: 1940.
А. Д. Соймонов, В. Г. Базанов, [195] См. также: Базанов В. Г. Былины П. И. Рябинина-Андреева. — Петрозаводск: 1939.
А. М. Линевский. [196] См. также: Линевский А. М. Сказитель Ф. А. Конашков. — Петрозаводск: 1948.
Благодаря повторным записям появилась возможность узнать о тех изменениях, которые были внесены в эпос за прошедшее время, о роли, которую играл сказитель в создании и бытовании эпических произведений. Это дало возможность отделить социальную практику, отраженную в эпосе, от повседневной социальной практики самих сказителей. Были произведены попытки осмысления истории былинного творчества и поиска путей распространения былин. [197] Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. — Петрозаводск: 1948.
Интервал:
Закладка: