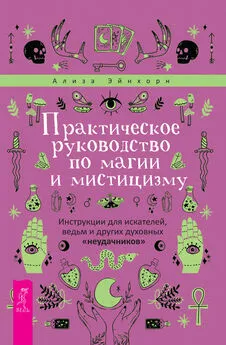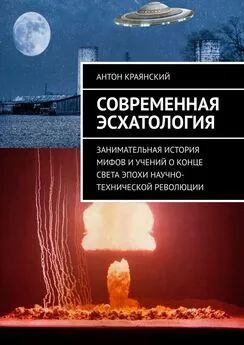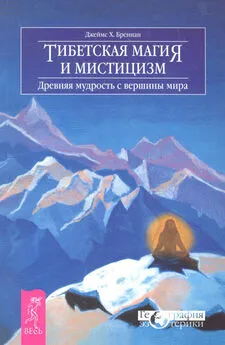Эрик Дэвис - Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху
- Название:Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ультра. Культура
- Год:2008
- ISBN:978-5-9681-0127-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Дэвис - Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху краткое содержание
Если проанализировать параллельно историю техники и историю мистики, то мы сможем обнаружить мистические озарения и апокалиптические ожидания, которые пронизывают историю человечества и его взаимоотношении с природой. Книга Эрика Дэвнса открывает нам сегодняшнее «технологическое бессознательное», в котором есть место религиозному воображению, утопическим мечтам, апокалиптическим видениям, цифровым фантазиям и одержимости потусторонним миром. «Техногнозис» демонстрирует и то, как язык и идеи информационного общества видоизменяют и формируют многие аспекты современной духовности. Автор предлагает читателю яркое и захватывающее путешествие в наступившее тысячелетие, в котором гипермедиа с ошеломляющей скоростью изменяют и границы реальности, и саму нашу идентичность.
Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это голос техномистического избранного, холодного гурджиевского аристократа, который преодолел запрограммированность своего поведения и теперь взирает на обыкновенную человеческую личность как на «невежественного, грубого, необразованного, упрямого, раздражительного трактирщика». Как мы увидим на примере экстропианцев, это бодрящее высокомерие стоит за постгуманистическим и техногностическим пересмотром дарвиновской идеи о выживании наиболее приспособленных.
В то же время животрепещущая «научная фантастика» Лири остается творческим, даже делириозным призывом держать руки на рычагах управления самими собой, развивать навык, весьма полезный в эпоху, когда человеческое сознание во все большей степени переплетается с электронными технологиями и медиасетями. Если не заходить так далеко, как зашел Лири, можно просто сказать, что нам необходимо пересмотреть наше фундаментальное отношение к механизму как в себе самих, так и в мире. В эссе 1992 года «Преобразование социальных практик» французский психолог и философ Феликс Гаттари заметил, как ожесточенно мы продолжаем противопоставлять машину человеческому духу: «Некоторые философы утверждали, что современная технология блокировала доступ к нашим онтологическим основаниям, к примордиальному бытию». Но, спрашивает он, что, если правильным является противоположное представление и «возрождение духа и человеческих ценностей может быть достигнуто через новый союз с машинами»? 134Это та самая интуиция, которая вдохновляет одухотворенного киборга на исследование этих не нанесенных на карту и предательских морей.
В этом смысле прозорливое вовлечение Лири в евангелистику персонального компьютера в 80-х годах было не просто знаком его неослабевающей и отчаянной потребности быть всегда на переднем крае. Как он отметил в 1987 году, когда он переделал «Экзопсихологию» в «Инфопсихологию», новые цифровые устройства появились для того, чтобы оживить кибернетическую мечту фриков о перепрограммировании состояний сознания. В конце концов, даже этимологически компьютеры были в буквальном смысле «психоделическими», потому что они проявляли сознание. Многие психонавты осознали потенциал персональных компьютеров задолго до того, как до этого признания дошла вся остальная культура, и некоторые даже сколотили капитал на радужных надеждах. При помощи своего проницательного социологического «радара» Лири смог провидеть и то, насколько быстро фокус импульса, направленного на внешние пространства и высшие планы бытия, переместится на «внутреннее», или кибернетическое, пространство компьютера. По причинам, которые мы рассмотрим в следующей главе, многие из вроде бы доживающих свой век контркультурных мечтаний о самоопределении и творческой магии переберутся во вселенную цифрового кода. С распространением персональных компьютеров возможности человеко-машинного интерфейса, одухотворенного или нет, распались на фрагменты, децентрализовались и стали выходить из-под контроля. Сама Система стала галлюцинировать, и самой популярной техникой экстаза стал экстаз коммуникации.
VI
Самая волшебная машина
В 60-х годах утопические настроения охватили Америку с большей силой, чем когда-либо на памяти живших людей. Ибо, несмотря на насилие и потери, с которыми сталкивалась и которые порождала контркультура, последняя все же несла в себе страстную надежду на лучшее общество, и эта страсть приобретала форму милленари-стского предвкушения, которое оказалось сильнее доводов разума. Фрики и радикалы по всей стране нутром чуяли: заря нового и более совершенного мира должна вот-вот заняться, как бы они ее ни называли — революцией или эрой Водолея. И это глубинное чувство предвосхищения лучшего помогало сдерживать внутренние противоречия всего движения достаточно долго, чтобы противостоять системе единым добровольческим фронтом. Но дождь не пролился и сад не взошел, и политический радикализм контркультуры и ее жажда волшебного сперва продолжили существовать по отдельности, а затем окончательно рассыпались и рассеялись. В 1970-е годы остатки как того, так и другого можно было обнаружить в таких «племенах», как феминистки, спасатели китов, религиозные культы, террористические ячейки, художественные школы, а также среди кочующих поклонников группы Grateful Dead, сопровождавших ее по всей стране. Но из всех культурных зон, в которых нашли свой приют пережитки причудливых мечтаний, без всякого сомнения, самой неожиданной оказалась вселенная цифрового кода, мир, заключенный внутри миниатюризи-рованных версий тех самых машин, которые некогда были квинтэссенцией образа жизни синих воротничков, технократов и военных.
Сегодня риторика, окружающая персональные компьютеры и сети цифровой коммуникации, продолжает отстаивать такие ценности 1960-х годов, как радикальная демократия, саморазвитие, построение альтернативного сообщества и децентрализованный, свободный обмен информацией и даже речи Ньюта Гингрича, в которых он излагает свое технореспубликанское видение информационной эпохи, звучат так, будто они принадлежат длинноволосому анархисту с мегафоном в руке. А некоторые открыто признаются, что верят, будто компьютер излучает космические вибрации. Особенно это касается по преимуществу субкультуры Северной Калифорнии, которую Марк Дери окрестил «киберделией», — мира рейверов, программистов-язычников и высокотехнологичных гедонистов, которые пытаются связать воедино «трансценденталистские импульсы 60-х с информационной манией 90-х» 135. Но эти переполненные энтузиазмом ребята, уже отходящие понемногу в прошлое, всего лишь узкая часть изобильного галлюцинаторного потока, воплощенного в журнале PC–Computing, фрактальных скрин-сейверах, виртуальной реальности, видеоиграх и обложках Wired.
При ближайшем рассмотрении цифровой ремастеринг старой контркультуры не должен слишком нас удивлять, ибо утопия 1960-х во многом была утопией освобожденных технологий, и технофильское крыло фриков, возглавляемое дизайнерами-пророками, такими как Бак-минстер Фуллер и Паоло Солери, ставили своей целью «приделать руль к космическому кораблю Земля». Пытаясь создать «технологию с человеческим лицом», которая гармонизировала бы ритмы органической жизни, эти пионеры воплощали тот же дух автономии и социального изобретательства, который витал над экспериментальными религиозными коммунами, усеившими Америку в XIX веке. Без сомнения, самым популярным изданием в среде этих архитекторов общества стал Whole Earth Catalog, [44] «Каталог всея Земли». — В вольном переводе злобного переводчика.
основанный «веселым проказником» Стюартом Брандом в 1968 году как «незаконный информационный сервис», обещавший «Доступ к Инструментам». Большая часть «инструментов», перечисленных в каталоге, касалась доиндустриальных чудес, некогда оставленных и полузабытых ради дьявольской колесницы XX века. Там были дровяные печи, индейские типи и приемы садоводства без химических удобрений. Однако Whole Earth Catalog издавался, как говорится, на коленке и затраты на его печать были намного меньше затрат на издание мейнстримовых журналов, а потому его редакторы, чтобы держаться на плаву, отдавали часть журнального пространства медиатехнологиям, таким как камеры, синтезаторы, стереопроигрыватели и… компьютеры.
Интервал:
Закладка:


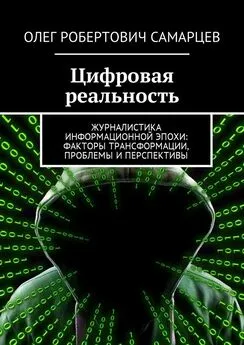

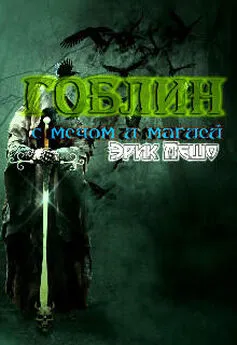
![Эрик Л’Ом - Магия невидимого острова [litres]](/books/1090056/erik-l-om-magiya-nevidimogo-ostrova-litres.webp)