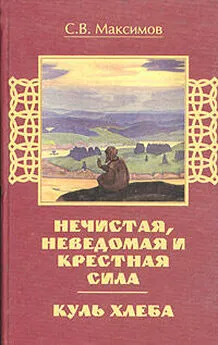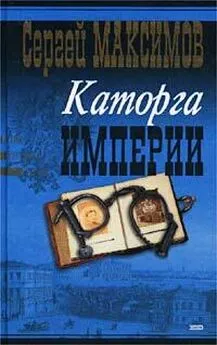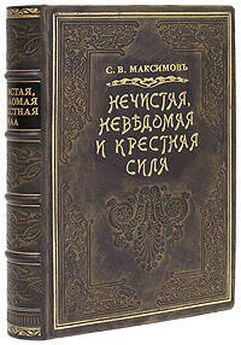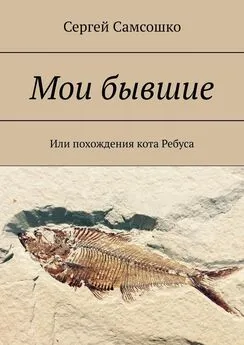Сергей Максимов - Куль хлеба и его похождения
- Название:Куль хлеба и его похождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русич
- Год:1995
- ISBN:5-88590-387-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Максимов - Куль хлеба и его похождения краткое содержание
Хлеб — наша русская пища
- Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.
— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле:
Милости просим, садись с нами и ешь
Вот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются. Так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или лучше, историю о куле с хлебом. Всякая погудка ко хлебу добра, говорит наш народ, да и моя — старая — на новый лишь лад. Почему я начал говорить именно о хлебе, сейчас объясню
"Куль хлеба", книга, написанная вроде бы про всякие детали земледельческого быта и труда второй половины XIX века, на самом деле рассказывает о тысячелетней культуре нашего народа, изображая ее на хлебном "срезе".
Книга русского писателя Сергея Васильевича Максимова, впервые вышла в 1873 году.
Куль хлеба и его похождения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На судах шум, стук и суетня: перегружают хлебный товар, пришедший почти со всех концов России, хлебный спирт, мочальные изделия, корабельный лес и железо, — весь товар, предназначенный для Петербурга. Прямо против города светлеет широкой полосой масса воды, под острым углом вливающаяся в Волгу: это река Шексна, прямой водный путь в Петербург, начало так называемой Мариинской водной системы — с последнего времени самая любимая судохозяевами предпочтительно перед другими двумя системами каналов: Тихвинской и Вышневолоцкой. По Мариинской системе преимущественно направляется тот хлеб, который поедает сам Петербург и отправляет за границу.
В Рыбинске хлеб в кулях и мешках поступает на попечение крючников, работающих артелями в 12–16 человек: четверо, называемые в ы ставщикам и, подают кули со дна баржи и ставят их на выставку или на печку на палубе судна. Отсюда четыре горбача берут кулье на плечи с подмогой на подброску и переносят на другое судно, которое сидит на воде мельче, в день 200–400 кулей. Замечательно при этом, что каждому кулю — по исчислению досужих людей — приходится побывать на крюке во время пути до Петербурга до семи раз и притом так, что не всякий крючник попадет удобно сразу, чтобы ловко было подхватить потом куль снизу левой рукой. Перебрасывая крюк с места на место и разрывая им рогожу по нескольку раз, крючники дырявят куль до такой степени, что мука и зерна высыпаются, и так называемая раструска увеличивается.
Надо заметить, что хлеб, заготовленный на низовых пристанях на Волге, в Петербург в одно лето не поспевает и по дороге зимует. Зимовку эту надо понимать таким образом. Знают купцы, что в Петербурге хлебные запасы велики, и прослышали они, что заграничный спрос слаб и цены низки, а потому, боясь продешевиться и потерпеть убытки, складывают свой хлебный товар по дороге. Склады эти и в Рыбинске, и в Вознесенье, и в Сермаксах, и в Новгороде, и на Сосницкой пристани вблизи его. Впрочем, для зимовок хлеба и других причин очень много: крушение барок и подмочка зерна и муки, задержки от неустройства водяного пути и порчи бечевников, от сибирской язвы, которая валит лошадей, заменяющих здесь бурлаков. Всякий знает, что от подобных несчастий хлеб портится, зимуя в бунтах в чистом поле, где приспел час несчастья.
Река Шексна вытекает из Белоозера, но она выводит суда не в него, а в Белозерский канал и затем в реку Ковжу и реку Вытегру. Из Вытегры идут суда опять в прорытый канал, обходящий бурное Онежское озеро, и вступают в реку Свирь, в Свирский канал и в канал Ладожский, который также избавляет грузы от опасностей на беспокойном Ладожском озере. Ладожский канал приводит в Неву, под Невскую лавру, на Калашниковскую пристань.
Рыбинская перегрузка потребовалась мелководьем рек на дальнейшем пути. Здесь строятся особого устройства барки, которым приходится дальше иметь дело с мелководными, порожистыми и каменистыми реками. Против мелководья придуманы плотины, стесняющие воду и не дающие ей разливаться и истрачиваться по-пустому, и шлюзы, или ворота, которыми в запрудах или гатях, насыпанных поперек реки, запирают в реках воду и в течение известного времени скоплявот ее. Временем накопления воды определяются сроки для впуска ее из хранилищ и пропуска судов дальше (во все судоходное время обыкновенно три раза: весной, летом и осенью.
Против порогов выдуманы обходы, или каналы, очистка порогов от крупных камней и особые совершенно плоскодонные из тонких досок суда, очень гибкие и, стало быть, не столь уже ломкие. Между ними особенно замечательны барки вышневолоцкие.
Войдем с хлебными барками в любую систему каналов, соединяющих Волгу с Невой (или Каспийское море с Балтийским), и увидим все сказанное выше воочию
Глава XII В каналах
Там, где теперь стоит Рыбинск, до времен Петра Великого, переделавшего Россию на иной лад и по другим образцам, лежала ловецкая слобода Рыбная, жили рыбаки (отсюда и нынешнее название города). Ловили они для стола московских царей осетров и стерлядей и тем платили государевы подати. Шекснинские стерляди были вкусны и знамениты, и еще поэт времен Екатерины Второй Державин воспевал их в своей оде (последним, однако: теперь стерлядей там так стало мало, что почти и не слыхать про них). Рыбинску на таком промысле дальше бы соседней Мологи и не уйти. Так его в те времена и понимали: глухие, непроездные дороги окружали его со всех сторон, и тянулась одна получше на Москву для провоза стерлядок. Когда Великий Петр приобрел Балтийское море, в устьях Невы поставил сначала крепость, а потом город и огляделся — город его очутился в бесхлебной, голодной стране. Стоял тут вблизи от него и еще гораздо ближе к России древний город Новгород Великий, да не прожил счастливо. Долго был он независим, долго кичился торговой честью, Софийским собором, говорил: Кто против Бога и Великого Новгорода, назывался отцом. Подсмеивался он над другими городами, хвастался и славился даже тем, что стоял за непролазными болотами, отделялся от России неудобными для прохода и проезда трясинами. И в самом деле, степняки-татары до него дойти не сумели и его не взяли. Взяла его Москва, и именно потому взяла его, что город стоял за болотами.
Стоя на болотах и сплошь окруженный трясинами, Новгород один год получал кое-какой урожай, на другой уже очень плохой, на третий испытывал полную голодовку. Полуголодным простоял он все время своего независимого состояния и получал хлеб гужом и сплавом. Плавили хлеб по рекам, встречали волок — лесное место, перегружали хлеб на воза, везли сухопутьем до новой реки и ею до нового волока. Первый водок был под Москвой и назывался Ламским (город Волоколамск), второй назывался Вышним, то есть верхним (город Вышний Волочек), и третий — Нижним (село на реке Мете). Чтобы направлять в Новгород хлеб, под Волочком Вышним собрался впоследствии городок, населился торговцами и прозван был Торгом, Торжком и потом Новым. Закичатся новгородцы, начнут обижать народ чужого и соседнего княжества Суздальского, в котором хорошо родился хлеб, пойдут новгородцы войной, — суздальцы захватят Новый Торг и не выпускают хлеба. Новгородцы без хлеба смирялись, уступали, шли на мировую и совсем покорились, когда из Суздальского княжества стало сильное Московское царство, хотя когда-то с сердцем и выговорили: Не быть-де Торжку Новым — Городом и Новугороду Новым Торгом.
На эти места и обратил Петр Великий в 1704 году свое внимание, от которого не ускользало ничего, что служило на пользу отечества и счастье русского народа. Здесь Петр Великий высмотрел для сытости своего Питера то самое место, по которому можно доплавить затребованный хлеб на продовольствие. В трех верстах от Волочка берет начало река Тверца, которая впадает прямо в Волгу (под Тверью). Для прозорливого глаза довольно: под Волочком лежит большое озеро Мстино. Из озера выходит река Мста которой еще древняя Ольга устроила погосты. Мста течет до озера Ильменя и в него впадает; из Ильменя выходит Волхов и вливается в Ладожское озеро. Из этого озера вытекает многоводный рукав Нева, а на ней и Петрова крепость, и церковь Троицы с дворцом вблизи, и летний дворец на том берегу, и мазанки, и деревянные дома на голландский манер новой столицы России, и резиденции ее повелителя. Не сходится Тверца со Мстою — беда небольшая; в Голландии соединяют такие реки искусственными каналами. Сам государь собственными глазами это видел, по каналам плавал, все внимательно осмотрел и досконально распознал и научился. Стали рыть канавы: вырыли такую глубокую и длинную, что воды Тверцы соединились со мстинской водой. Сделался канал Вышневолоцкий. Препятствие пройдено, но скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Скоро, по пословице, блины пекут, скоро хорошо не родится. Поспешай, да не торопись, — святое правило, да и в этих случаях надо осматриваться. Действительно, новый канал в Волочке вышел на такую высоту, что крест Боровицкой соборной колокольни гораздо ниже: раздолье сплыть туда. Но до той поры не угодно ли обернуться назад.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: