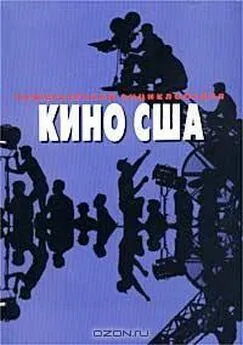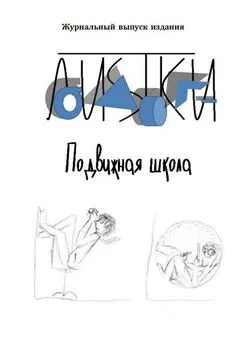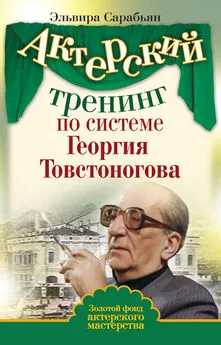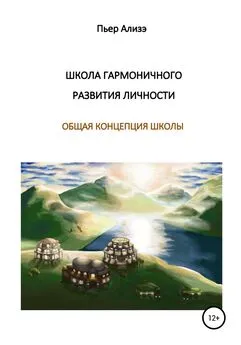И. Малочевская - Режиссерская школа Товстоногова
- Название:Режиссерская школа Товстоногова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Малочевская - Режиссерская школа Товстоногова краткое содержание
Режиссерская школа Товстоногова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Интересен также опыт Мейерхольда проникновения в авторский замысел. «Нельзя одними и теми же приемами играть Маяковского и Чехова. В искусстве нет универсальных отмычек ко всем замкам, как у взломщиков. В искусстве нужно искать к каждому автору специальный ключ» 44 , — эти слова Мейерхольда были подкреплены многими спектаклями, им поставленными. Точно подобранный «ключ» — это богатейшая палитра разнообразных выразительных средств сценического искусства, открытых режиссером и с блеском реализованных в его спектаклях, они-то и помогали раскрыть автора. Правда, Мейерхольд ищет ключ не к той или иной пьесе, но к творчеству автора в целом: «Меня упрекали в том, что наш «Ревизор» не очень весел... Гоголь любил говорить, что веселое часто оборачивается печальным, если в него долго всматриваться. В этом превращении смешного в печальное — фокус сценического стиля Гоголя»45. Вот отмеченная критиками, одна из характерных черт спектаклей режиссера: «Мейерхольд зачастую перемонтировал текст, выходил за пределы пьесы, расширял пьесу до пределов всего авторского миросозерцания, лучшие примеры — «Ревизор» и «Горе уму»46. Благодаря художественному единству его спектаклей, мысль автора обретала глубину, смысловой объем, многомерность; искусству режиссера были доступны новые средства сценической выразительности, охватывающие одновременно и бытовое, и абстрактное, и символическое отражение жизни.
Очевидно, что, даже не меняя текста, режиссер (в союзе с актерами, сценографом, композитором) с легкостью может преобразовать проблему, заложенную в пьесе, по своему усмотрению, не заботясь о совпадении с намерениями автора, искажая, подменяя его мысль собственной. «Я могу, — писал Мейерхольд, — прочесть пьесу, не изменяя в ней ни буквы, в противоположном автору духе только одними режиссерскими и актерскими акцентами. Поэтому борьба за сохранение и воплощение авторского замысла — это не борьба за букву пьесы»47. Игнорирование стилистического, жанрового своеобразия произведения становилось всегда препятствием плодотворному развитию театра — он отучался слышать голос автора, видеть его неповторимое лицо. «Есть черты лица, а есть выражение лица. Плохой портретист пишет только первое, а хороший — второе...»48 — проблема авторской стилистики всегда занимала Мейерхольда. Жанр — это «выражение лица» автора. Театр — самостоятельный творец — должен быть чутким по отношению к автору, суметь уловить «выражение его лица», а не «черты», — то есть не просто в точности воспроизвести текст (такой педантизм просто вреден), но проникнуть в мир его образов, постигнуть его поэтику.
Своеобразие постижения авторской стилистики в творчестве Станиславского и Немировича-Данченко выразилось в том, что автор раскрывался ими прежде всего через актера. Широко и свободно вводя театральную условность в свои спектакли, Художественный театр оставался верен своему основному творческому принципу: внутреннее оправдание актером сценической условности, ее органическое рождение из человеческой природы самого артиста. Для Станиславского была допустима (и любима им!) любая сверхусловность в режиссерском использовании сценической площадки, в планировке мизансцен, в декорациях и костюмах. Однако среди такой условной обстановки на сцене должен действовать живой человек, сколь угодно эксцентричный, но во всей его физической, духовной и психологической подлинности. Станиславский никогда не ставил знака равенства между правдой жизни и сценической правдой. Превратно понятые формулы Станиславского «я в предлагаемых обстоятельствах» и «идти от себя» часто приводят к тиражированию актерами штампов правдоподобия, пренебрежению к автору, к образу, к перевоплощению. Предъявление самого себя, не преображенного творчески, губительно для искусства актера. Это приводит также к искажению автора. Станиславский писал: «Беда, когда всякую роль, всякого автора подминают под себя, приспосабливают себе, переваривают для себя. Тут смерть искусству и ремесло»49. Он предлагал диалектическое равновесие во взаимоотношениях театра и автора: «Результатом творческой работы артиста... является живое создание. Это не есть слепок роли, точь-в-точь такой, какой ее родил поэт, это не сам артист, каким мы знаем его в действительности. «Новое создание — живое существо, унаследовавшее черты как артиста, его зачавшего и родившего, так и роли, его, артиста, оплодотворившей. Новое создание — дух от духа, плоть от плоти поэта и артиста»50. Этот принцип нашел отражение в таких спектаклях, поставленных Станиславским, как «Ревизор», с поразительным по смелости решением образа Хлестакова, — яркий психологический гротеск Михаила Чехова; в «Горячем сердце», с фарсовым, великолепным по остроте постижения образа Хлыно-ва — Москвиным; в динамичном карнавальном представлении «Женитьбы Фигаро». Жизненная правда не адекватна сценической, поэтому Станиславский боролся с бытовой правдой в театре, называл ее «правденкой», «малой правдой». Правда автора, считал он, это «большая правда», прокладывающая путь к перевоплощению. Вступая в спор с теми, кто стремился сузить его учение до бытового правдоподобия, Станиславский писал: «Вся моя жизнь посвящена перевоплощению»51.
На протяжении всей своей театральной и педагогической практики разгадкой жанра, стилистики автора был увлечен и Немирович-Данченко. Как говорил сам мастер, он стремился в своих спектаклях передать сценическими средствами «пушок» неповторимой индивидуальности автора. «...Я стараюсь проникнуть в самую глубь явлений, ...Я напрягаю свои силы, чтобы заразить актеров тем чувством тайного творчества, которое я получаю от пьесы или роли, заразить актеров тем ароматом авторского творчества, который не поддается анализу, слишком ясному, той проникновенностью психологии, которую не подгонишь ни под какую систему и не подведешь ни под какие «корни чувства», когда дважды два становится не четыре, а черт знает чем», — эти слова режиссера относятся к началу 1915 года, когда учение о творчестве актера, знаменитая система Станиславского еще только складывались. Минуют годы, десятилетия, прежде чем, пройдя через различные стадии поисков, заблуждения, противоречия, Станиславский откроет метод физических действий, помогающий проникновению в тайну авторского образа, дарующий актеру свободу импровизационной жизни. Творческая последовательность и настойчивость Немировича-Данченко в желании отыскать уникальную стилистику произведения, его погруженность в эту проблему, думается, являлись мощным толчком, стимулирующим процесс поисков в Художественном театре. «Лицо автора», «внутренний образ», природа, способ актерского существования в спектакле, «зерно роли» — это все проблемы, глубоко волновавшие режиссера на протяжении всей его творческой жизни. «Угадывание авторского стиля составляет одну из важнейших задач театра... Итак, если мы установим, что стиль спектакля должен идти от стиля автора, то вот тут-то возникает другой важный вопрос: как добраться до стиля автора? Это одна из важнейших основ воспитания актера, которая, однако, у нас до сих пор очень колебалась и сейчас еще не имеет устойчивости в нашем театре. Шаток и, я бы сказал, не имеет никаких корней вопрос о том, как угадать автора... Я уже говорил не раз, что необходимо у нас завести классы аналитического изучения авторского стиля по большим классическим произведениям... Изучение автора, или, точнее, подхода к раскрытию его лица, помогает верно находить стиль спектакля»52. Однако практика показала, что не открытие классов «аналитического изучения авторского стиля», как предлагал Немирович-Данченко, а метод действенного анализа пьесы и роли дал инструмент для плодотворных поисков в этом направлении. Свою новую методику Станиславский справедливо считал решающим шагом на пути обнаружения неповторимых особенностей, отличающих художественный мир одного автора от другого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: