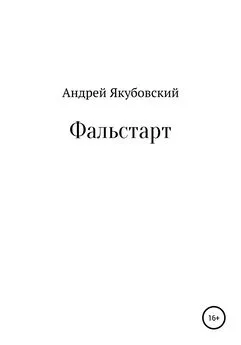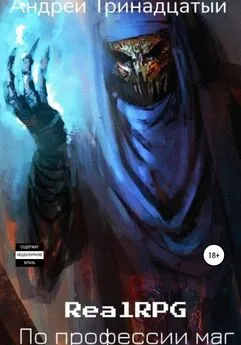Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
- Название:Профессия: театральный критик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик краткое содержание
Настоящая книга знакомит читателя с российским и зарубежным театром 1960 — 2000-х годов, с творчеством ведущих актеров, режиссеров и сценографов этого времени. В ней помещены работы разных жанров — от портрета и театральной рецензии до обзора театральной жизни и проблемных статей. В связи с чем знакомство с книгой будет интересно и полезно не только для любителей театра, но прежде всего для студентов-театроведов, искусствоведов, филологов, как своего рода практикум по театральной критике.
Профессия: театральный критик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Назовем ее мотивом пробуждения лучших сил человеческой души, несмотря на гнет противоборствующих обстоятельств, мотивом возрождения человека, его великой, порой выстраданной любви к людям.
Оставаясь реалистом и психологом, он заставлял своих героев жить вне мелочных бытовых соответствий, тянулся к поэтическому и даже где-то публицистическому выражению своего ощущения жизни. Его тема и созданные им образы не оставались в среде чистой художественно воссозданной психологии. Они рвались к страстной философии, к воинствующей этике, к мыслям высокого накала и остро современного звучания. Этим Орлов как бы продолжал творческие устремления своего учителя Станиславского. Но Орлов остается при всем этом суровым аналитиком, актером-социологом. Сочетание глубины и возвышенности, рождающейся в смелом и точном историческом анализе, пришло к актеру от Чехова и Горького. Ведь лирическая драма Чехова и явно публицистические полотна Горького были одновременно и документами эпохи. В них Орлов и создал свои лучшие роли, ставшие явлениями общественного порядка, научился мыслить и творить. Его талант благодарно воспринял уроки великих драматургов. Со временем актер приобрел и способность по-особенному волновать зрителей, или, как говорит он сам, будить в них "искательные тревоги".
Герои Орлова всегда властно притягивают к себе внимание зала. Вспомним творческий вечер актера. На оголенной концертной сцене замечательные мхатовские мастера превосходно разыгрывали сцену, по настроению противоположную тональности его героя. Но стоило только прозвучать (даже еще не был освоен смысл слов) глуховатому, совершенно особенно взмывающему в верхний регистр голосу Орлова— и атмосфера изменилась, встревоженное внимание прочно обратилось на него.
Неповторимая тревога эта сравнима со смутным осознанием какого-то неоплатного долга перед героями актера. Ее, может быть, расшифровывают слова чеховского Вершинина о грядущей жизни, для которой эти герои "живут", "работают", "страдают". Или Ольги: "Страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас... и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь".
Это ощущение, выделяя Орлова из любого окружения, как правило, производит потрясающий эффект и постоянно находит отзыв у зала вне зависимости от масштаба роли. Остро возникает оно в сценах мхатов-ского "На дне".
В суетном мире костылевской ночлежки едва ли встретишь другого такого внешне незаметного, отъединенного от всего, ушедшего в себя человека, как Актер. Он нехотя и мало говорит, но и эти редкие походы во внешний мир стоят ему особых усилий, словно отрывают от какого-то постоянно совершающегося в нем мыслительного процесса. Встрепенулся— и снова в забытье, не прерываемом даже жестоким кашлем алкоголика. И вдруг—строчка из "Гамлета". Фигура—вверх, рука — к зрителю, лицо озарено внутренним светом. И снова— будто сонное оцепенение. Несколько раз мир Актера приоткрывается на мгновение, и при свете вспышек этих мы успеваем разглядеть видения, населяющие его. Офелию, могильщиков, Гамлета и самого героя, некогда Сверчкова-За-волжского. Человек без имени и здесь живет в царстве театра. Его не касается грязная озлобленная реальность. "Там" и "здесь" не сталкиваются. Но все же столкнулись. Дело не в том, что Лука поманил, посулил возрождение, а жизнь ударила. Актер забыл куплеты Беранжера! Куплеты — это грезы. Беранжер—это театр. Забыл — реальность. Столкновение несводимых начал неизбежно развязывает в герое Орлова конфликт. Сцена эта проводится актером с такой внутренней дрожью и размахом трагизма, что становится ясно: Актеру остается или "смириться под ударами судьбы", или "сном забыться, уснуть". И человек, сохранивший в исполнении Орлова чистоту и удивительную внутреннюю цельность— любовь и преданность театру,— принял решение. Он не смирился.
В сегодняшнем спектакле МХАТа негромкая тема человека, проснувшегося ото сна, отчетливее других увидевшего "широкую, неумытую морду с огромными глазами" — образину жизни, даже потеснила открытую романтичность монологов Сатина. Она звучит трагическим обвинением жизни и утверждением силы человека, человека прозревшего и принявшего решение.
Орлов необыкновенно передает значительность происходящих в его захудалом герое перемен. Всегда точно угадываешь глубинные движения его мыслей. И чем глубже прячется мысль, чем скупее ее выражение, тем больше хочется ее разгадать, измерить.
Так же по-своему прочитал Орлов и роль Ивана Петровича Вой-ницкого. На сцене МХАТа этот театральный герой прошел сложный путь развития. Первый создатель образа — Вишневский, как следует из режиссерского экземпляра Станиславского, передавал сломленность героя, его капитуляцию перед жизнью. Предшественник Орлова Добронравов пользовался в этой роли палитрой почти буйной, делал центральной сцену восстания. Играть роль после такого актера, каким был Добронравов, необычайно трудно. Орлов сыграл. Актера не интересуют сами по себе мотивы увядания и бунта. Его внимание целиком отдано развитию в герое страстного, уверенного сознания: "Я не жил — я хочу жить". Образ в исполнении Орлова не подчиняется драматическим членениям. Его "завязка" — далеко за пределами пьесы, "кульминация", по всему видно, — в будущем.
Такое впечатление создается актером исподволь. Особенно ощутимо оно в сцене покушения на Серебрякова. Здесь Орлов показывает не столько ненависть, сколько процесс созревания героя. Конечно, это взрыв. Но когда дядя Ваня стреляет, он уже словно знает, что не в Серебряковых дело, он уже и не думает о профессоре. Он будто чувствует даже, что промахнется. Отчего это? Дядя Ваня осмысливает жизнь. И понимает уже, что за Серебряковым прячется какая-то жестокая и еще непонятная ему "образина", похожая на ту, что видели прежде другие герои актера. Особенная остраненность конфликта чеховской поэтики ясно выявлена в этой сцене, талантливо и глубоко прочувствованной, вернее, продуманной актером.
Чудесный, поэтичный герой Чехова в трактовке Орлова действительно что-то вроде несостоявшегося Шопенгауэра и Достоевского. В монологах второго акта, где дядя Ваня говорит о любви, о жизни, что гибнет впустую, трепещут обостренные чувства, звучат проникнутые тоскливым удивлением слова. Но о них не скажешь — "окрашенные". "Отлитые"—это много вернее. Словно обращенные актером к самому себе, сближенные с думами, они принимают законченную форму исповеди, размышления вслух. Они точно, почти зримо передают психологические смещения в сознании Войницкого. Это происходит оттого, что мысли актера словно бы обгоняют его чувства. Потому так отчетливо звучит в Войницком и в других работах Орлова тема осмысления жизни. Этой особенностью своего творчества Орлов отвечает требованию Станиславского "поставить мысль впереди темперамента". Он как бы являет собой, говоря словами Алексея Попова, "самый современный тип" актера— "актера интеллектуального обаяния".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
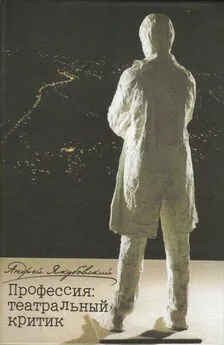

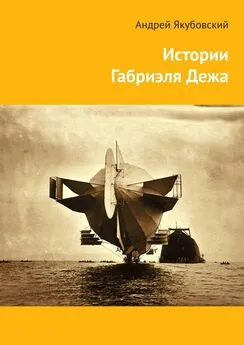

![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/1143258/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna.webp)