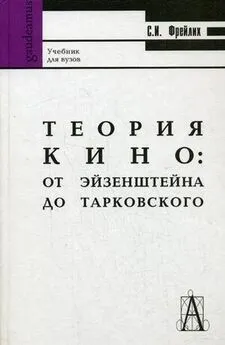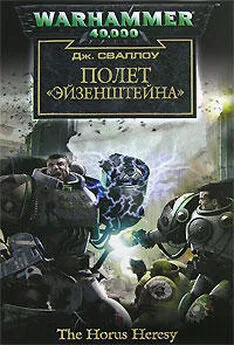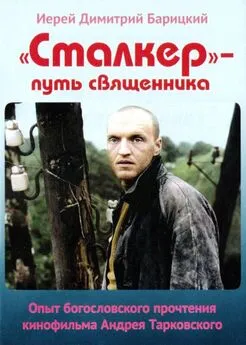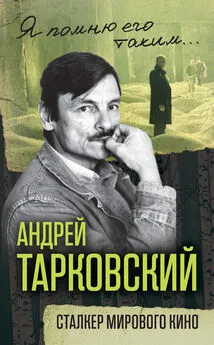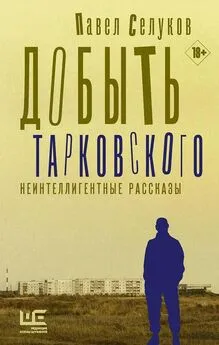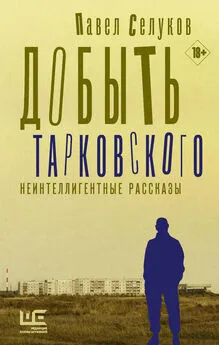С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Название:ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО краткое содержание
ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мать предчувствовала, что может выпасть на долю сына, и перед манифестацией осенила его крестным знамением. Это очень важный момент в картине, но Панфилов не придает ему неистовость, как и не превращает движение Павла навстречу палачам в своеобразное «восхождение на Голгофу». Улица горбатая, выгодно для съемки извилистая, люди, стоящие с двух сторон, создают тесное дефиле для этой напряженной сцены, и, наверное, если бы режиссер снимал притчу, мизансцена была бы другой - движение, думаю, шло бы вверх, но Панфилов, как уже замечено, снимает роман, метафора не обнажена, герои спускаются вниз, смысл «Голгофы» спрятан в подтекст сцены и работает через противоположность.
В повести Горького из друзей Павла мать любила душевного Андрея Находку (артист А. Карин) и остерегалась крайне озлобленного Николая Весовщикова (артист С. Бобров), о котором Находка сказал ей: «Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения - что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло, вспенится…» Такой сцены нет в фильме, но это не значит, что Панфилов ее не заметил. Опираясь на другие произведения Горького - «Жизнь ненужного человека» и «Карамора», он решает эту тему сильнейшим образом на судьбе двух сводных братьев. Один из них казнит другого за предательство, но, убив праведно, он, в конце концов, убивает праведную - мать Павла.
Значит, тревожные мысли о «темных страстях», «о вьюге жадности, ненависти, мести» возникли у Горького впервые не в «Несвоевременных мыслях», а еще в повести «Мать», написанной в 1906 году. Не потому ли был так обеднен смысл повести, что это было умышленно затемнено, как не говорилось и о мотивах повести, связанных с религиозными исканиями Горького, но зато в любом учебнике «буревестника» журили за «богоискательство», предпринятое им одновременно с Луначарским и Богдановым. Говорю это с большой осторожностью, потому что сегодня есть опасность другой крайности. От преследования верующих мы резко повернули к преследованию атеистов. Заблуждения эти связаны в своих истоках с крайностями большевизма, не сумевшего разделить с христианством десять заповедей.
На этой проблеме проверяется сегодня современное мышление. Телевидение, кино, литература часто поверхностно эксплуатируют Бога, церковь, икону. В картине Панфилова толкование темы дается современно, но не конъюнктурно. Несколько раз на экране возникает образ Христа. Впервые - когда Павел принес домой репродукцию и повесил ее на стену. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. «Это воскресший Христос идет в Эммаус!» - объяснил он матери. Потом ей стало казаться, что это Павел идет с товарищами, в конце концов, она перестала огорчаться, что сын не ходит в церковь: за неверием его она почувствовала веру.
Мать - гениальный человек. Работая с Инной Чуриковой над этой ролью, Панфилов столь высоко поднимает планку, что кажется, актрисе не хватит дыхания ее взять, а между тем Чурикова берет ее не из последних сил. Резервы у актрисы неисчерпаемы, хотя из картины в картину у нее одни и те же выразительные средства: ее глаза, ее жест, ее голос. В чем же тогда дело, почему каждый раз она кажется нам новой, неизвестной еще? Артистическая натура в том и состоит, что каждый раз затрагивает в себе разные струны, каждый раз может отозваться на разное. Что же играет, нет, лучше - чем живет Инна Чурикова в роли Ниловны? Ее героиня поразительно любопытна к жизни, иногда это проявляется на грани инфантильности, но ее любопытство не праздное, она отзывчива на чужую беду в такой степени, что способна к самопожертвованию. В повести ее убивает жандарм, которого мы не знаем, в фильме убийца персонифицирован, это бывший друг Павла, которого сломали, и он стал осведомителем (артист Д. Певцов). Это сильная сцена. Горящие глаза Иуды завистливы, он ненавидит мать за ее веру; получив смертельную рану, она не корчится от боли, не зовет на помощь, она поражена изменой, ее последние слова обращены к предателю: «Как же ты будешь жить после этого, Яков?» Чурикова произносит слова тихо, почти с состраданием, и в этот момент мы постигаем философскую глубину образа.
Режиссер сам написал сценарий, здесь есть свои преимущества, поскольку он является автором фильма изначально. В картине есть сцена, когда Павел рисует контур девушки, потом одевает ее в рыцарские доспехи - это Жанна д'Арк, о которой Панфилову в свое время не дали поставить фильм, а между тем он его весь уже сочинил, неосуществленный замысел живет в подсознании, проявляя себя так или иначе в других работах. Вот и сейчас режиссер дарит свои переживания Павлу, и герой в этой сцене становится как бы вторым «я» автора. Но, к сожалению, режиссерская драматургия, которая стала в нашем кино правилом, имеет протори, увы, и в данном случае. В картине недостаточно проработаны индивидуальные характеры лиц из окружения Павла, утрачены нюансы отношений героя и Саши, а это существенно: мать огорчалась, что об их намерении жениться узнала не от сына. Сквозь сеть крупной вязки уходит из эпического романа «мелкая рыбешка» психологии; в такие моменты действие утяжеляется, фильм входит в зону сопротивления материала, и зритель это чувствует.
И в искусстве, и в жизни человеку труднее всего руководить самим собой. Говоря о взаимоотношениях между Панфиловым-драматургом и Панфиловым-режиссером, именно это я имею в виду, и ничего больше. В картине есть примеры и обратного свойства: мы встречаем драматургические решения, которые предвосхищают режиссерские озарения. У Панфилова два кинематографических образования: операторское и режиссерское, это чувствуется в работе с актерами - фильм населен огромным числом персонажей, расположение фигур в этом движущемся полотне безукоризненно.
В картине история не реставрируется, а переживается заново. Композиционная стратегия состоит в осмыслении постепенно раскрывающегося пространства (оператор М. Агранович). Рабочая слободка, завод, Нижний Новгород, Россия, земной шар. Это расширение земного пространства ошеломляет, потому что происходит неожиданно, во внефабульных эпизодах. Фигуры Шаляпина, Николая II, Ленина возникают именно во внефабульных эпизодах, для традиционного восприятия они могут показаться «лишними», но именно в этом был замысел - расширить действие могучими толчками и неожиданно. Царь получает информацию о стачке во дворце, Ленин - в Лондоне; сцены корреспондируются, реальные фигуры, возникавшие в историко-революционных фильмах, увидены в новом повороте. Это увлекло Панфилова, коль скоро, работая над фильмом, он сочиняет сценарий о последнем периоде дома Романовых, к постановке которого практически готов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: