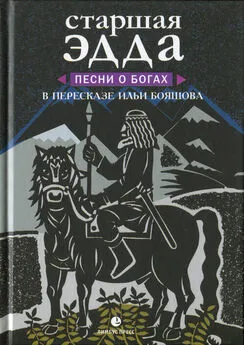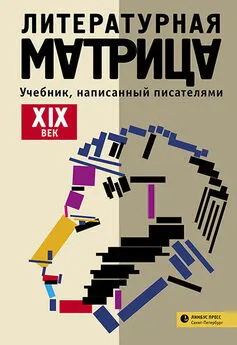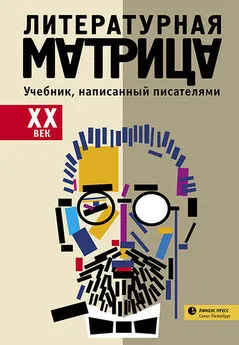Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
- Название:Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2010
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0557-2 (т. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 краткое содержание
Современные писатели и поэты размышляют о русских классиках, чьи произведения входят в школьную программу по литературе.
Издание предназначено для старшеклассников, студентов вузов, а также для всех, кто интересуется классической и современной русской литературой.
Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бунин начинал и довольно долго и успешно продолжал как поэт (если не считать написанного еще в 1894-м рассказа «На край света», который сделал некоторое имя Бунину-прозаику — социальная тема, переселенцы…). В двадцать восемь лет, в качестве известного, но не бурно модного поэта опубликовал столь блистательный, безусловно классический перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, что уже одно это сочинение должно было бы поставить его в ряд крупнейших стихотворцев. И поставило бы, не будь тогда критики, да и большая часть образованных читателей заняты вечным русским литературным делом — распределением авторов по школам, направлениям и группам. Бунина занесли по разряду «созерцателей», потом декадентов, потом холодных парнасцев [36] Парнасцы — здесь: литераторы, для которых характерна точность и выверенность поэтики (вместо свойственной романтикам вдохновенной небрежности), исключительная забота о тщательной отделке текста. — Прим. ред.
… Между тем он был просто поэт, в меру своего дара и большого умения продолжавший классическую русскую традицию. И «Гайавата», и все его стихи подтверждают именно это.
…В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.
(«Песня о Гайавате»)
Это ли не прекрасный образец классического (если не считать великолепно выбранного размера) истинно русского стиха? «Деревня», «камыши и длинный шпажник» — разве это про неведомую Америку Лонгфелло, а не про родные Елецкие Озерки?
Высокий белый зал, где черная рояль
Дневной холодный свет, блистая, отражает,
Княжна то жалобой, то громом оглашает,
Ломая туфелькой педаль.
Сестра стоит в диванной полукруглой,
Глядит с улыбкою насмешливо-живой,
Как пишет лицеист, с кудрявой головой
И с краской на лице, горячею и смуглой.
Глаза княжны не сходят с бурных нот,
Но, что гремит рояль, — она давно не слышит, —
Весь мир в одном: «Он ей в альбомы пишет!» —
И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.
(1919)
Что в этом Пушкину посвященном этюде, как не пушкинское же (то есть сущностно русско-поэтическое) очарование легкости, пусть с оттенком имитации даже, но какого качества имитации!
Между тем новая поэзия над Буниным посмеивалась, определяла его в «ископаемые», если не в графоманы.
Он, в свою очередь, отвечал «блокам и маяковским» почти истерическим раздражением, тем самым закрывая для себя вход в современную ему литературную жизнь. Уже в пору эмиграции молодые русские поэты (по обе стороны советской границы) называли стихи знаменитого прозаика Бунина попросту «виршами», он же привычно поносил «шарлатанов» — к литературному неприятию добавлялось идейное, поскольку многие «шарлатанствовавшие» не только приняли ненавидимую им советскую власть, но и, оставшись в России, верно служили большевикам.
Как же — на мой взгляд — обстоит дело со стихами Бунина? Надо сказать просто и ясно: Бунин был бесспорно одаренным поэтом, но поэзии в его даре было ровно столько, сколько нужно, чтобы стать несравненным прозаиком. В Пушкине и Лермонтове поэтические запасы были так велики, что их хватило и на непревзойденную, основополагающую русскую прозу, и на гигантскую поэзию. Бунин же перенаправил всю свою поэзию в прозаическую форму — и совершил, как мне кажется, гениальный выбор: то, чего было маловато для великих стихов, оказалось достаточно, если не в избытке, для блистательной прозы. Были великие поэты, писавшие прекрасную прозу, но Бунин, пожалуй, единственный высшего класса прозаик, писавший хорошие стихи.
Итак, он прославился «Деревней».
Название это так полно и точно соответствует сочинению, как редко бывает с названиями. Судьбы двух братьев Красовых прослежены в небольшой повести от рождения и до старости — даже раньше, чем с рождения: «Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново». И от этой первой фразы до последних полубессмысленных частушечных строк «У голубя, у сизого / Золотая голова!» — все о деревне и только о деревне, все, что мог знать о русской деревне человек, проживший в ней большую часть жизни и наделенный феноменально, почти патологически острыми восприимчивостью и чувствительностью. Жизни братьев Красовых и еще нескольких десятков персонажей, из которых многие и появляются-то в одной фразе, а застревают в памяти навсегда, — это и есть жизнь русской деревни во всей полноте ее драматургии и во всех подробностях ее течения. Бунин вполне резонно дал небольшому произведению название, пригодное, скорее, для огромного романа — силе замаха результат соответствовал.
Однако что же существенно нового смог сообщить русскому обществу о деревенской жизни Бунин, когда о ней уже столько сказали Тургенев, Успенские, Лесков да, в конце концов, Толстой?
Как это бывает обыкновенно, общественный успех принесли не истинно главные достоинства, а второстепенные. Злоба дня застила глаза и критике, и читателям — «Деревню» оценили прежде всего как первое значительное изображение в литературе крестьянского участия в революции 1905 года и крестьянского восприятия послереволюционного времени. Одного этого было достаточно, чтобы приковать к повести внимание «прогрессивной общественности», — вниманием которой, такова ирония обстоятельств, автор как раз не дорожил.
Но не только время действия оценили образованные читатели и чуткие критики — не меньше, если не больше, поразило отношение автора к главному герою. А главным героем «Деревни», как и следовало, стал народ, тот русский мужик, которого литература и весь образованный класс уже по крайней мере полвека идеализировали, которого описывали не только с безусловным сочувствием, но и с преклонением, с восхищением. То есть в традициях толстовской «каратаевщины», ставшей, пожалуй, единственной традицией, которой следовали все авторы сочинений о крестьянстве, независимо от школы и направления мыслей. Исключением был, пожалуй, Чехов с его «Мужиками» и «В овраге», но чеховский взгляд был сторонним, а бунинский — и это все почувствовали — был взглядом изнутри, взглядом деревенского человека. Вот где помещичья натура, кровно родственная крестьянской, проступила! Такая органическая близость автора героям не могла остаться незамеченной и неоцененной, однако оценка была полна сомнений — да как же можно покушаться на святость мужика, на величие крестьянской души, на непогрешимость народа, который есть недостижимый пример для бессовестной, кругом перед народом виноватой образованной и обеспеченной части общества… Между тем фразу «Ни к черту не годный народ!» произносит в повести не изумленный деревенской жизнью барин, бывающий в имении наездами между лечением на водах и московскими балами, а самый что ни на есть мужик, выбившийся в деревенские богатеи, но живущий в той же грязи, в тех же скотских жестокости и безобразии, что и весь обличаемый им народ. Обличаемый с такими аргументами, с такими примерами, которых не могут знать персонаж и автор, посторонние деревне. Не хотелось верить, а приходилось…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
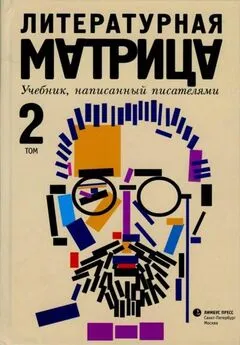
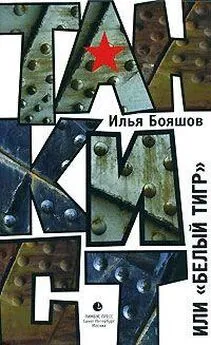
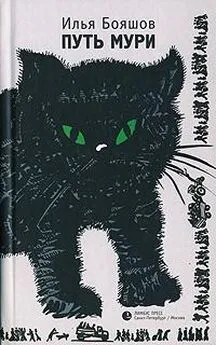

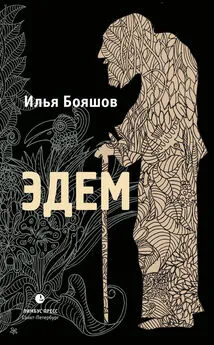
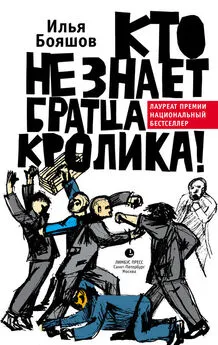
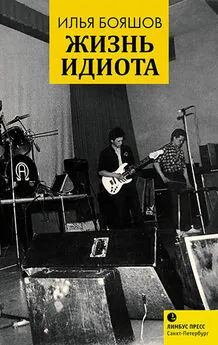
![Илья Бояшов - Портулан [сборник]](/books/1094140/ilya-boyashov-portulan-sbornik.webp)