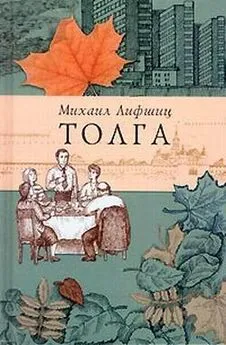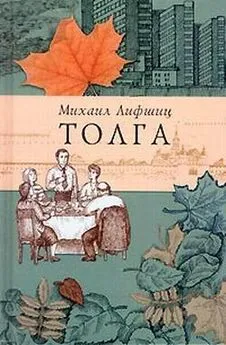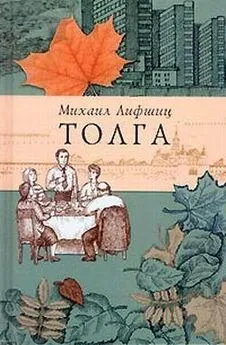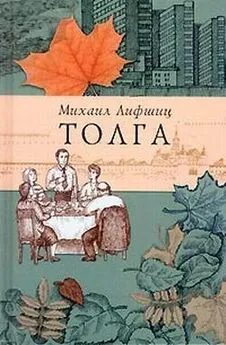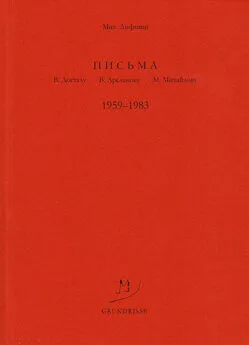Михаил Лифшиц - В мире эстетики Статьи 1969-1981 гг.
- Название:В мире эстетики Статьи 1969-1981 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изобразительное искусство
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98051-043-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Лифшиц - В мире эстетики Статьи 1969-1981 гг. краткое содержание
Настоящая книга — последний завершенный труд Михаила Александровича Лифшица, выдающегося ученого-коммуниста, философа, эстетика, искусствоведа, действительного члена Академии художеств СССР, доктора философских наук.
Автор смог принять участие лишь в начальных стадиях издательского процесса подготовки книги к печати Эта работа была завершена уже без него, после его внезапной кончины 20 сентября 1983 года.
Книга М. А. Лифшица включает четыре фундаментальные статьи, над которыми автор работал в течение нескольких лет. Только часть первой статьи, один раздел третьей и несколько страниц четвертой увидели свет ранее в других изданиях; остальное публикуется впервые.
В мире эстетики Статьи 1969-1981 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Да вот, собственно, и прошлогодний снег — не огорчайтесь! Только мертвые не возвращаются, сказал Барер, Анакреонт гильотины. К сожалению, он был прав. Что же касается идей, то они очень способны возвращаться, и не всегда на пользу людям. С некоторого времени мы снова слышим, что изображение жизни в искусстве принадлежит прошлому, что вполне современным образом можно сидеть только на колченогом стуле из водопроводных труб, что дом должен быть весь из стекла, невзирая на климат, или, наоборот, с такими узкими щелями вместо окон, чтобы его можно было принять за развалины средневекового замка, а современная музыка должна терзать нервную систему, иначе ей не удастся выразить всеобщее мировое расстройство. Весьма авторитетные эстетики корректно и релевантно доказывают, что самый реализм XX века уже не реализм, а что-то потустороннее. Ученики Хулио Хуренито снова клеймят мещанский вкус купца Кутехина, который пошел было в гору после отмены гонения на красоту, и до сих пор еще иногда показывает своим противникам то, что Иван Никифорович показывал Ивану Ивановичу.
Как же все это понимать? Понимать это нужно так, что от перемены мундира дело не меняется. Между тем многие идеи и настроения, имеющие глубокие корни в мелкобуржуазной массе, взбудораженной революцией, не были изжиты органически, а только исчезли в 30-х годах по щучьему велению. Строго говоря, первейшим пророком щучьего веления был сам Хулио Хуренито, как видит читатель даже из моего слабого изложения. Его анархо-деспотизм потерпел крушение не по причине отсталого вкуса ответственных работников и жен старых коммунистов, как рассказывает Илья Эренбург. «Левая» фраза, особенно дикая в искусстве, наткнулась на ум и волю передовых рабочих России. Но, умирая из-за сапог, снятых бандитом в Конотопе, Хулио Хуренито отомстил будущим поколениям, оставив по себе какой-то серный запах, ибо родство таинственного мексиканца с Мефистофелем не подлежит никакому сомнению. Классика, введенная в 30-х годах методами Хулио Хуренито, обнаружила, конечно, некоторые пороки, но о них уже столько писали, что незачем повторять общие места *. Между тем примесью этой серы было на время испорчено великое дело — слияние народного подъема с высокой классической традицией, или, что то же самое, традицией реализма в ее наиболее широких и прекрасных формах, свободных от проклятья, произнесенного над ними разрушительным адским духом буржуазной культуры эпохи упадка.
Помню, с каким трудом пробивались в марксистскую лексику такие слова, как «прекрасное» или «идеал», в настоящее время уже снова затасканные. Даже слово «народ» считалось заимствованным из словаря купца Кутехина или по крайней мере его сына — присяжного поверенного, состоявшего в партии эсеров. Еще в середине 30-х годов на одном авторитетном заседании меня строго допрашивали, действительно ли я думаю, что декабристы защищали дело народа. Пришлось сознаться, что я так думаю.
— Это ниже рабфаковского уровня! — сказал с возмущением один видный писатель тех лет.
Очень многие полагали, что действительной целью декабристов было обеспечить интересы помещиков, торгующих хлебом.
И вдруг все переменилось. Прежние крайние отрицатели стали реставраторами старых понятий. Само пустозвонство надело новый мундир. Реализм, казалось, торжествовал, народность стала ходячим словом… Признаться, я сам радовался той быстроте, с которой совершались эти перемены, думая только о том, что утверждается в жизни, и не заботясь о том, как это происходит. Может быть на моем месте вы были бы умнее, друг читатель, даже наверно были бы умнее, а я наказан за свое легкомыслие. Немезида-то ведь существует… Я наказан тем, что снова вижу призраки старых идей, лезущих в жизнь с того света. Старые знакомые — как приятно или, вернее, как неприятно встретиться с вами вновь!
В экономике и культуре «нахрапом» ничего добиться нельзя, сказал Ленин. Если бы идея чрезмерного отрицания во имя нового, идея всеобщей ликвидации была изжита в 30-х годах более органическим путем, нам не пришлось бы сейчас видеть прошлогодний снег. И может быть, это было бы
Тем более, что по авторитетному свидетельству Г. Недошивина ', я писал о них еще в те отдаленные времена, когда эти пороки только намечались. Имеется в виду моя статья 1934 года «О культуре и ее пороках» 2(цифры отсылают к примечаниям в конце книги).
гораздо лучше. Если бы да кабы… Но историческим фактам не читают
нотаций.
Зато и никакой окончательности, вызывающей тупую покорность, в них нет. Ложные мысли, идеи-призраки могут вернуться, но если задача верно поставлена, она будет решена. История любит переделывать свои дела, пока не вылепит то, что ей надо. Вот почему я не беспокоюсь за судьбы дорогих моему сердцу идей, сколько бы прошлогоднего снега ни намело. «Ще вернеться весна», — сказал поэт. Правда, молодость «не вёрнеться», похоже на то, что на мой век обывательщины и пустозвонства хватит. Но кто же мерит длительность исторических изменений столь жалкой мерой, как человеческая жизнь?
Поживем — увидим, и прежде всего будем продолжать — поп свое, а черт свое.
Еще раз о реализме
Трудно писать о предметах общеизвестных, сказал Гораций. Слишком общие, школьные рассуждения не вызывают доверия. Но, познакомившись со статьей «Реализм», напечатанной в 21-м томе нового издания Большой Советской Энциклопедии, я понял, что писать о предметах общеизвестных необходимо, и писать о них следует по всем правилам школьной логики, чтобы не утонуть в трясине коварного пустозвонства.
Статья, о которой идет речь, открывается следующей дефиницией: «Реализм в литературе и искусстве — правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или другому виду художественного творчества». Это звучит гордо. Но, простите, ведь за пределами искусства и литературы также существует «правдивое, объективное отражение действительности», не так ли? Нельзя отказать в этом, например, науке. Чем же отличается правдивое, объективное отражение действительности в искусстве, именно в искусстве, включая сюда, разумеется, и художественную литературу? Приведенная дефиниция не открывает нам на этот счет ровно ничего, хотя затемняет по силе возможности очень многое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: