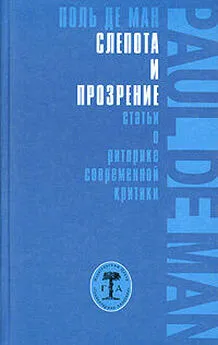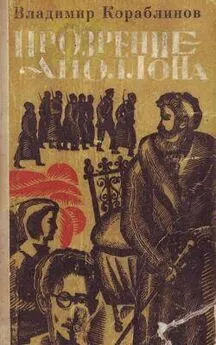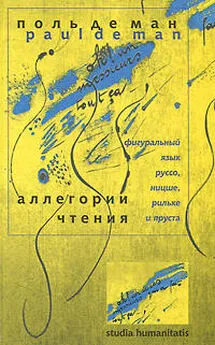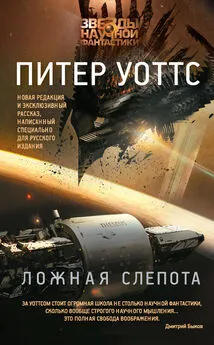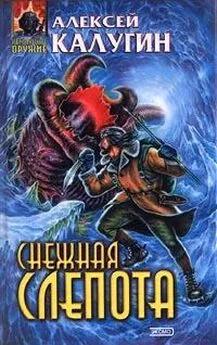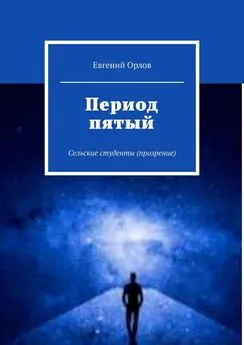Поль де Ман - Слепота и прозрение
- Название:Слепота и прозрение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Центр «Гуманитарная Академия»
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-93762-018-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль де Ман - Слепота и прозрение краткое содержание
Книга профессора сравнительной и французской литературы Йельского университета Поля де Мана посвящена структурному и феноменологическому анализу литературных текстов. Этот тип анализа рассматривает произведение с точки зрения риторических структур, что превращает избранных де Маном авторов в наших современников.
Слепота и прозрение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все эти аргументы, однако, не принципиальны. Дерри- да мог бы справедливо указать, что те фрагменты текстов Руссо, где тот говорит о нравственной двойственности, о фиктивном (и, следовательно, «внутреннем») характере внешней причины, вызвавшей раскол естественного состояния, об одновременности исторического упадка и исторического прогресса ни в коей мере не обесценивают его прочтения. Все это дескриптивные места, в которых
Руссо вынужден писать обратное тому, что хочет сказать. То же справедливо и в отношении более сложного аспекта прочтения Деррида — странной конструкции оценки, которую Руссо дает понятию начала и не менее удивительной конструкции того, каким образом такое начало вовлекает его в бесконечно регрессивный процесс; он постоянно вынужден подменять обесцененное начало более глубоким, более изначальным состоянием, чем то, которое окажется оставленным позади. Та же модель появляется у Деррида, когда он избирает словарь начала (origin) для обозначения неизначального характера так называемых начинаний (beginnings) — когда утверждается, что артикуляция является началом языка, в то время как артикуляция есть именно та структура, которая не позволяет сбыться подлинному началу. Употребление словаря присутствия (или же начала, природы, сознания и т. д.) с тем, чтобы разорвать требования этого словаря, заводя его в им же самим подготовленный логический тупик, — устойчивая и контролируемая стратегия, осуществляемая в De la Grammatologie. Мы оказались бы в ловушке, если бы стремились показать, что Деррида обманывается тем же образом, каким, по его мнению, обманывается Руссо. Нас интересует не столько степень слепоты Руссо или Деррида, сколько риторическая модель их дискурсов.
Неудивительно, что Деррида более искусен и убедителен в представлении философии письменного языка и «различия», отвергаемого Руссо, чем в представлении философии цельности (plenitude), которую Руссо намерен отстаивать. Более того, Деррида располагает обширной традицией интерпретации Руссо, поддерживающей его в понимании Руссо как признанного философа непосредственного присутствия. В этом смысле его образ Руссо достаточно традиционен и не нуждается в каком-либо воссоздании. Его анализ направлен на постепенное отмежевание от теории присутствия Руссо, находящейся под бременем его собственного языка. И все же, по крайней мере дважды, Деррида отвлекается от демонстрации строгой ортодоксии Руссо по отношению к традиционной онтологии западного мышления, и, по крайней мере, в одном из этих случаев такое отклонение дается ему лишь ценой значительного и оригинального усилия интерпретации, выходящего за пределы и даже противоречащего прямому смыслу высказываний самого Руссо [117] Я имею в виду здесь то место, где речь идет о метафоре (Gr, p. 387–397). См. ниже, с. 133–135.
. Важно, что в обоих случаях речь с необходимостью заходит о понимании и использовании риторических фигур самим Руссо. В вопросе о природе, о «я», о начале и даже о морали Деррида отталкивается от обычного способа интерпретации Руссо и затем показывает, как текст самого Руссо подрывает провозглашаемую им философскую лояльность. Но в двух пунктах, касающихся риторики, Деррида следует иной, лучшей традиции. Для него, очевидно, значимо, что теория и практика риторики Руссо также будут подпадать под императив того, что он называет «логоцентристской» онтологией, предпочитающей сказанное слово слову написанному. Именно в этой точке нам следует изменить направление интерпретативного движения и начать читать скорее Деррида в терминах Руссо, чем наоборот.
Деррида говорит о двух тесно связанных между собой риторических фигурах, обе они отчетливо заметны в «О происхождении языка» — это подражание (мимесис) и метафора. Чтобы продемонстрировать логоцентристскую ортодоксальность теории метафоры Руссо, Деррида должен показать, что его понятие репрезентации основывается на подражании, причем онтологический статус изображаемого сущего под вопрос не ставится. Репрезентация есть двойственный процесс, предполагающий отсутствие того, что делается вновь присутствующим, и такое отсутствие неслучайно. Однако же когда репрезентация понимается как подражание, в классическом смысле эстетической теории восемнадцатого века, в ней скорее подтверждается, чем разрывается целостность репрезентируемого сущего. Репрезентация действует как мнемотехнический знак, возвращающий нечто, что произошло не в настоящий момент, но существование которого в другом месте, в другом времени или в ином модусе сознания не подвергается сомнению. Моделью для такой идеи репрезентации служит нарисованный образ, представляющий объект взгляду так, как если бы тот присутствовал здесь и сейчас, и обеспечивающий непрерывность присутствия данного объекта. Сила образа преодолевает двойственность чувственно данного: миметическое воображение способно преобразовать невидимые, «внутренние» модели опыта (чувства, эмоции, страсти) в объекты восприятия и потому способно представить некий опыт сознания, не обладающий объективным бытием, как действительно, конкретно данное. Об этой способности часто говорится как об основной функции нерепрезентативных форм искусства, таких как музыка: в них подражание происходит посредством знаков, естественным образом связанных с обозначаемыми ими эмоциями. Теоретик репрезентативной эстетики, аббат Дю Бо пишет:
Так же как художник подражает линиям и цветам природы, музыкант подражает тону, акцентам, паузам, голосовым модуляциям, короче, всем тем звукам, посредством которых сама природа выражает собственные чувства и эмоции. Все эти звуки. столь эффективны эмоционально именно потому, что они суть знаки страсти, существующей благодаря самой природе. Они обретают свою силу непосредственно от самой природы, тогда как членораздельные слова есть лишь случайные знаки страстей… Музыка группирует естественные знаки страстей и при помощи искусства умножает силу поющихся слов. Естественные знаки удивительным образом пробуждают эмоции в том, кто их слышит. Это качество они заимствуют у самой природы [118] Jean Baptist Du Bos, Reflexions critiques sur la poesie et sur la peinture (Paris, 1740) vol. I, p. 435–436, 438.
.
Классические теории репрезентации восемнадцатого столетия настойчиво стремились редуцировать музыку и поэзию к статусу живописи [119] Ibid. «Il n'y a de la verite dans une symphonie, composee pour imiter une temete, que lorsque le chant de la symphonie, son harmonie et son rhythme nous font entendre un bruit pareil au fracas que les vents font dans l'aire et au mugissement des flots qui s'entrechoquent, ou qui se brisent contre les rochers». (Du Bos, op. cit., p. 440). — В симфонии, сочиненной в подражание буре, не будет правды до тех пор, пока мелодия симфонии, гармония и ритм ее не дадут нам услышать шум, подобный тому грому, который производит в воздухе ветер, или рёву волн, которые сталкиваются друг с другом или бьются о скалы (фр.).
. «La musique peint les passions» [120] музыка живописует страсти (фр.).
и utpictura poesis [121] поэзия подобна живописи (лат.).
— два великих общих места эстетического кредо, которые вовлекают своих приверженцев в интересный лабиринт проблем, не выводящий их, однако, к их собственным предпосылкам. Возможность претворять невидимое в видимое, наделять присутствием то, что доступно только воображению, вновь и вновь утверждается в качестве основной функции искусства. Из такого кредо вытекает и необходимость все внимание уделять предмету изображения как основе эстетического суждения. Предмет включает в себя репрезентацию того, что лежит за пределами чувственно воспринимаемого, и такая репрезентация наделяет предмет онтологической устойчивостью воспринимаемых объектов. Предмет интересует нас прежде всего потому, что в нем утверждается возможность репрезентации невидимого: репрезентация есть условие подражания как универсального доказательства присутствия. Необходимость вновь увидеть это доказательство стоит за многими характерными высказываниями того периода, подтверждая их ортодоксальность в терминах метафизики присутствия.
Интервал:
Закладка: