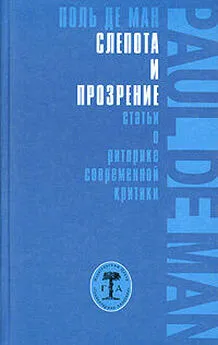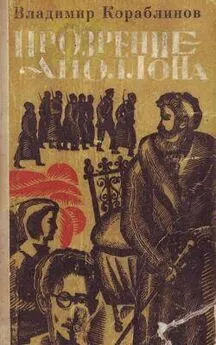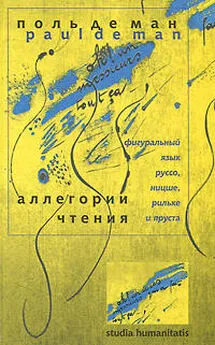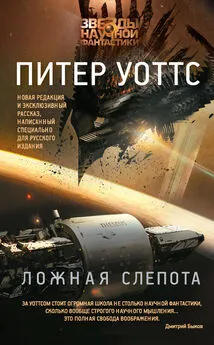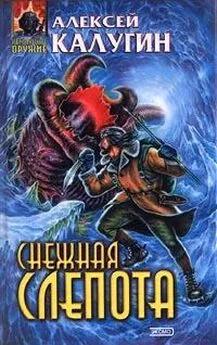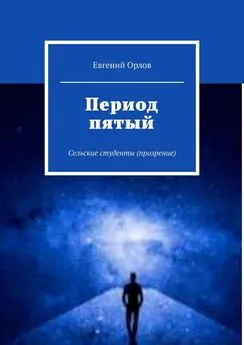Поль де Ман - Слепота и прозрение
- Название:Слепота и прозрение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Центр «Гуманитарная Академия»
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-93762-018-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль де Ман - Слепота и прозрение краткое содержание
Книга профессора сравнительной и французской литературы Йельского университета Поля де Мана посвящена структурному и феноменологическому анализу литературных текстов. Этот тип анализа рассматривает произведение с точки зрения риторических структур, что превращает избранных де Маном авторов в наших современников.
Слепота и прозрение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сам де Ман эти стабильно вскрываемые акты чтения-письма — слепоту и прозрение — называет фигурами, фигурами современной риторики. При этом сама риторика понимается им не как искусство красноречия и убеждения, но как искусство прочтения и понимания, осуществляемых посредством тропов, в конечном итоге, как наука о конфликтах между риторическими фигурами. Поскольку очевидна невозможность прямого, непосредственного высказывания, вернее, поскольку буквальное прочтение является лишь одним из возможных риторических решений, постольку выбор той или иной формы свидетельствует об изначальной подготовке высказывающегося. И зачастую только воспроизведенная работа по осуществлению выбора между тем или фигуральным рядом позволяет читателю обнаружить референт высказанного или, как в случае с поздней поэзией Малларме, репрезентативный смысл высказывания [194] См. гл. 9 (с. 232 и далее) настоящего издания.
. Такая работа, впрочем, не предполагает необходимости или даже возможности приведения выбора к однозначности.
Но вот здесь и вступает в игру та проблема, которую М. Бахтин описывал термином «вненаходимость автора», — если единственное, что автор может предъявить в отношении себя самого, есть предпочтение той или иной языковой ситуации, то невозможность буквального высказывания оборачивается смещением автора, на его место заступает исполнение предпочтения — письмо. Отношение читателя к письму уже никак не может происходить в модусе доверительности или откровенности.
По мысли де Мана, хайдеггеровское «die Sprache spricht», «язык говорит» — тезис амбивалентный. Дело не в том, что вдохновение диктует автору строки, которых он никогда не слышал. Дело в том, что поэзия телеологична. Она, по сути, не что иное, как адекватный инструмент судьбы и принуждает автора к открытию полноты условий возможности собственного бытия, каковая есть смерть. Потому чем более ослепительное поэтическое решение находит автор, в тем большую тьму погружается он лично, тем более мистифицирован его творческий самоотчет и отношения с литературной традицией. Для читателя же порядок чтения располагается по ту сторону принципа удовольствия и даже суждений вкуса. Для де Мана читатель — единственный свидетель того, как исполняется работа поэзии и как в стремлении к ясности как фундаментальному требованию поэтического действия автор всегда терпит катастрофу. Возвратное движение самопонимания превращает поэта в жертву собственного искусства, а читателю, следующему замысловатой траекторией авторского тропа, дарит момент истины, позволяющий услышать в конкретном поэтическом произведении подлинное высказывание, состоящее не столько в слове, сколько в поступке — в разрешении тех риторических тяготений, которые слово за собой влечет.
Фигуративные штудии в классической риторике сочетаются с их методическим подкреплением — мнемоническим искусством. Методика эта имманентна самой риторике и определяет не только инструментарий последней, но и её цели, поскольку риторика есть искусство указания на упущенное.
Традиционно память являлась частью души, а искусство памяти — частью риторики. Предполагает ли описываемая де Маном риторика обращение к какой-либо организации памяти? Казалось бы, что может извлечь память из опыта слепоты, то есть, в конечном итоге, забвения? Ведь «именно эта негативная, очевидно разрушительная работа приводит к тому, что совершенно точно можно назвать прозрением» [195] См. с. 139 настоящего издания.
. Сама эта негативность есть десубстанциализация позиции критика, движение, заставляющее его оторваться от того невысказанного центра прочтения, подле которого критик желал бы остаться. Если классическая память — это память, исполняющая экспансию позиции говорящего и работающая в режиме приобретения, сохранения и вновь приобретения, то описываемая де Маном память об интерпретируемом тексте — это забвение уже произведенной интерпретации, возвращающая критика к исходному тексту, это искусство утраты первичной (по времени, но не по поэтическому счету) определенности.
Аналогия с классическим искусством мнемоники может быть продолжена: есть память естественная, коей человек наделен от природы, а есть — искусная, отшлифованная упражнением и созерцанием, — так сказал бы художник памяти времен Ренессанса: искусство вторит природе и поддерживает её. У де Мана природа и искусство сочленены иначе. Описываемое де Маном действие риторического забвения также способно осуществлять себя не только неосознанно и спонтанно («естественно») — фигура забвения-вспоминания может быть оформлена в результате целенаправленной стратегии прочтения, как это показано на примере прочтения Руссо в «О грамматологии» Деррида. Исследование Деррида, как показывает де Ман, в случае с текстом Руссо сталкивается с особого рода литературно сущим — таким, которое само себя способно поставить под вопрос: «вместо Руссо, де- конструирующего своих критиков, мы имеем Деррида, применяющего деконструкцию к псевдо-Руссо, но использующего при этом интуиции реального Руссо. Модель слишком интересная, чтобы не быть умышленной» [196] См. с. 187 настоящего издания.
. Де Ман длит и разворачивает стратегию, которая стремится остаться скрытой в «О грамматологии»: там, где Деррида вынужден произнести уже «деконструкция», ввергая себя и читателя в расследование собственно философского и всяко уже внелитературного происшествия, де Ман все еще способен говорить о фигурах риторики, наблюдая их движение, превращения и то, каким образом они выдают себя за «исследования».
Дискурс йельского теоретика приводит читателя Деррида в то место, где для отличения текста Деррида от текста Руссо необходимо совершить дополнительное, внешнее по отношению к очевидностям и критическим высказываниям текста «О грамматологии» усилие. Причем независимо от того, совершается ли таковое, само пребывание в этом месте свидетельствует о возможности двигаться согласно намерениям текста Руссо и вопреки — Деррида, поскольку здесь — упрощая прочитываемые де Маном перипетии позиций Деррида, — мы встречаемся с тем случаем, когда автор оказывается более зряч, чем его критик, а критик высказывает истину постольку, поскольку говорит вопреки собственным критическим потенциям. Характер готовности к высказыванию скрыт от говорящего (в случае Деррида это — критик, в «обычном», более простом и более распространенном случае — автор), потому автор, посредством критика, попадает в классическую, платоновскую ситуацию знания как воспоминания.
Являются ли Руссо и Деррида единственными адептами этого искусства забвения-прозрения? Отнюдь. К ним мы должны причислить, следуя де Ману, и Ницше, и Гегеля, и Пруста, и Малларме. Образцовым полем «естественности» подобного забвения оказывается позиция романтизма с его забвением аллегории и предпочтением символа (и такое предпочтение сродни фрейдовскому «замещению»), а местом для искусного риторического жертвоприношения Мнемозине — любой литературный акт, смеющий соответствовать претензии на современность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: