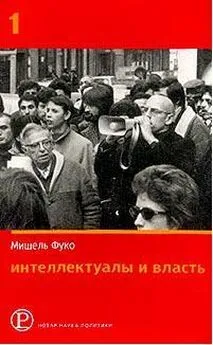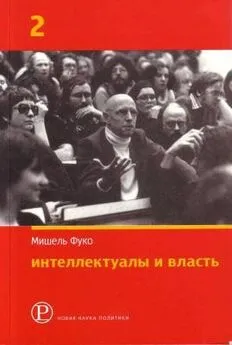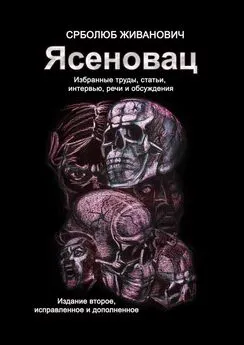Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью
- Название:Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Праксис
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-910574-23-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мишель Фуко - Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью краткое содержание
В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.
Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.
Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Надо отличать критику реформизма как политической практики от критики какой-либо политической практики, подозреваемой, в том, что она может дать повод для реформы. И этот второй вид критики часто встречается среди групп крайне левых, а его использование служит частью механизмов микротерроризма, с помощью которых те зачастую действовали. Состоит она в том, что говорят: «Осторожно! Какова бы ни была идеальная радикальность ваших помыслов, ваша деятельность настолько локальна, а цели настолько обособлены, что как раз в этой точке противник сможет выправить ситуацию, уступить, если нужно, ничего не уступая в общем положении, скорее, исходя из этого, он станет нащупывать точки необходимого преобразования, и вот тут-то с вас и взыщется». Итак, анафема провозглашена. Однако мне представляется, что подобная критика «через» реформизм зиждется на двух заблуждениях:
— недооценка той стратегической формы, в которую облекаются все превратности борьбы. Если мы признаем, что сразу и общим и конкретным образом борьбы выступает противоречие, то, без всякого сомнения, все, что может локализовать его, все, что позволяет входить с ним в сделку, будет иметь значение препятствия. Однако проблема как раз и заключается в том, может ли логика противоречия служить в политической борьбе основой для понимания и руководством к действию. И здесь мы касаемся важнейшего исторического вопроса: как случилось, что, начиная с XIX столетия, мы столь упорно и неизменно пытались разрешать конкретные вопросы борьбы и ее стратегии с помощью убогой логики противоречия? На это есть целый ряд причин, которые когда-нибудь надо будет попытаться проанализировать. Во всяком случае, надо постараться осмыслить борьбу, ее образы, цели, средства и превратности в логике, которая будет избавлена от иссушающих ограничений диалектики. Для того чтобы осмыслить общественную связь, «буржуазная» политическая мысль XVIII столетия придала себе правовую форму договора. Для того чтобы мыслить борьбу, «революционная» мысль XIX столетия приобрела логическую форму противоречия, и это, несомненно, не означает, что одна лучше другой. Зато в ответ крупные государства XIX столетия обрели для себя мысль стратегическую, тогда как все революционные виды борьбы осмысляли свою стратегию лишь весьма случайным образом, по стечению обстоятельств, и притом всякий раз пытаясь вписать ее в пределы противоречия;
— навязчивый страх реформистского возражения со стороны противника связан еще и с иным заблуждением. А именно с той первостепенной значимостью, которой мы наделяем то, что вполне серьезно называют «теорией» самого слабого звена: локальное наступление якобы должно иметь смысл и законность, лишь если оно нацелено на ту составляющую, что, будучи выбита, даст возможность полного разрыва цепи — итак действие локальное, но которое благодаря выбору его места будет воздействовать, и причем радикально, на все в целом. Тут опять-таки надо усомниться, отчего это предложение имело такой успех в XX столетии и почему его возвели в теорию. Разумеется, оно позволяло осмыслить то, что было для марксизма непредсказуемым: революцию в России. Однако, вообще-то говоря, следует признать, что речь здесь идет о положении не диалектическом, а стратегическом и, впрочем, совершенно азбучном. Для мышления, находящегося в зависимости от диалектического образца, это положение было стратегически приемлемым минимумом, и оно пока еще остается весьма близким к диалектике, потому что оно способствует возможности для какой-либо локальной ситуации расцениваться как противоречие целого. Отсюда и та торжественность, с которой мы возносим до «теории» это «ленинское» положение, в котором содержатся ни больше ни меньше как начатки знаний младшего лейтенанта запаса. Но ведь как раз во имя этого положения мы запугиваем всякую локальную деятельность следующей дилеммой: или же вы нападаете на местном уровне и в таком случае необходимо быть уверенным, что это и есть то слабое звено, от разрыва которого будет взорвано все, или же, если все не взорвалось, значит, звено не было самым слабым, и тогда противнику остается лишь перестроить свой фронт, и вашу атаку вновь поглотит реформа.
Мне кажется, что все это запугивание реформой связано с неполнотой стратегического анализа, свойственного политической борьбе, а именно борьбе в поле политической власти. И сегодня роль теории, мне представляется, состоит как раз вот в этом: не излагать глобальную систематичность, которая все расставит вновь по своим местам, но анализировать властные механизмы в их особенности, засекать их связи, их протяженность и мало-помалу строить стратегическое знание. И если «традиционные партии вновь восстановили свое превосходство над левыми», а также и над разными способами борьбы, которые те не контролировали, то одной из причин этого (среди множества других) было то, что для того чтобы анализировать их развертывание и воздействия, мы обзавелись крайне неудовлетворительной логикой.
А теория как ящик с инструментами означает следующее:
— что надо не строить какую-то систему, а создавать оснастку: некую логику, свойственную отношениям власти и тем видам борьбы, которые разворачиваются вокруг них;
— что эти исследования могут совершаться лишь мало-помалу, исходя из некоего размышления (в некоторых его измерениях с необходимостью исторического) над различными ситуациями.
N. В.: Эти вопросы мне были заданы письменно. И я ответил на них точно так же, хотя и безо всякого приготовления, и на деле ничего не меняя в самом первом написании. Но не из-за веры в достоинства непринужденности, а ради того, чтобы оставить за выдвигаемыми утверждениями свойство предположения и намеренной неопределенности. И то, что я здесь сказал, является не «тем, что я думаю», но подчас тем, насчет чего меня терзают сомнения, можем ли мы это не мыслить.
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБЩЕСТВО В КРИЗИСЕ [78] La societe disciplinaire en crise // Asahi Jaanaru. 20 anne, n 19, 12 mai 1978 (Лекция bq франко-японском институте Кансай в Киото 18 апреля 1978 года).
— Каковы отношения между Вашей теорией власти и классическим пониманием власти? И что же нового содержится в Вашей теории?
— Отличается вовсе не теория власти, отличается сам ее предмет и точка зрения на неё. Ведь в общем теория власти говорит о власти на языке права и ставит вопрос о её законности, границах и происхождении. Мои же исследования обращаются к техникам и технологии власти. Они сосредоточены на изучении того, как власть властвует и заставляет себе повиноваться. Начиная с XVII и XVIII столетий подобная технология развилась необычайно, но все-таки вообще не исследовалась. А ведь современное общество породило разнообразные способы сопротивления власти, такие, как феминизм, студенческие движения, и отношения между подобными видами сопротивления и техниками власти создают интересный объект исследования.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: