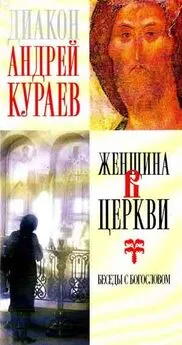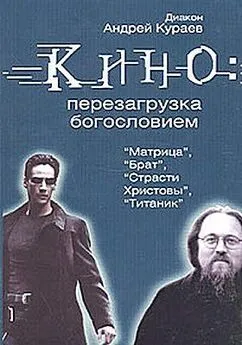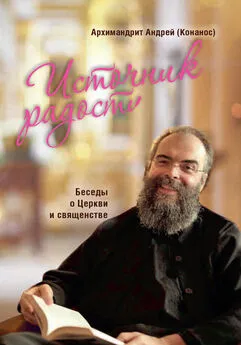Андрей Кураев - Женщина в Церкви : беседы с богословом
- Название:Женщина в Церкви : беседы с богословом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо, Яуза, (Тульская тип.)
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-699-06980-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кураев - Женщина в Церкви : беседы с богословом краткое содержание
Книга "Женщина в церкви" - это, прежде всего, ответы на насущные вопросы. Отец Андрей помогает отличить ответы, которые дает церковь, от ответов, слишком похожих на домыслы. В первом случае он интересно и порой весьма необычно объясняет, почему церковь на чем-то настаивает, а от чего-то предостерегает. Во втором случае - автор сдерживает церковных и нецерковных людей от взаимных претензий друг к другу.
Итак, почему же в православии нет женского священства? Изменился ли статус женщины в церкви в третьем тысячелетии?
Женщина в Церкви : беседы с богословом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для меня это пример нормального церковного развития: так меняется растущее дерево: без громких деклараций, без искусственного «перспективного планирования». Живое растет просто — «само собой».
На третьем же аргументе, позволяющем полагать, что слова Апостола не относятся к проповедническим опытам современных женщин, стоит остановиться подробнее.
В этом месте своего послания апостол призывает коринфян не увлекаться мистическими экспериментами. Он призывает, чтобы они не поощряли в себе стремление к «глоссолалии», то есть говорению на «незнакомых языках». В общем — это текст, мягко, но ясно направленный против мистического экстремизма, подобного тому, что встречается у современных «пятидесятников» и «харизматов». «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие: то не скажут ли вам, что вы беснуетесь?» (1 Кор. 14, 23). Затем апостол советует не говорить в собрании нескольким людям одновременно — «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (33). И затем — «жены ваши в церквах да молчат» (34). И вывод: «все должно быть благопристойно и чинно» (40).
Мы видим, что совет о молчании жен прозвучал в послании к общине, чьи собрания проходили довольно бурно. Эта община была легка на расколы, на внутренние распри. Не умела она еще и отличать подлинно христианского учения от подделок. Прикоснувшись к чему-то необычайному, она легко впадала в надменность и гордость. Поэтому апостол в у посланиях к коринфянам (всего их было три; до нас дошло лишь два) напоминал им, что путь любви выше, чем путь гностического «знания», дар любви важнее дара «языков», жизнь в любовном единении важнее школьных споров по поводу того, чей учитель «выше».
Теперь представим себе, какой была роль новообращенных (а иных тогда просто не было) женщин в жизни такой общины. Эмоциональные, легковерные, они восторженно восприняли весть о том, что вера в Евангелие освобождает их от тягот иудейского закона. Недавно безмолвные — они стремились утвердиться в своем новом качестве, торопясь оповестить всех окружающих о своих духовных переживаниях.
Сегодня мы видим, что в тех сектах, что возвещают непосредственные и регулярные «контакты с Духом», ведущую роль очень часто играют именно женщины. Елена Блаватская, Елена Рерих, Алиса Бейли, Елена Писарева, Мария Дэви Христос из «Белого Братства», Ольга Асауляк, Людмила Шапошникова, Наталья Бондарчук… В тех оккультно-гностических кружках, которые стояли на границе церковного христианства и язычества, также возвещались идеи и духовные оыпты, быстрее пленявшие именно женское сознание. В Коринфе, где христиане еще не научились отличать гностические подделки от апостольской веры, голос женщин, видевших себя в роли «пророчиц», был слишком громок.
Не входя в обсуждение доброкачественноcти каждого из «голосов» и «пророчеств», апостол Павел призывает сдерживать этот энтузиазм. Его голос — голос трезвого пастыря среди внезапно опьяневших. Никому не вынося строгого и жесткого приговора (чтобы не спровоцировать ответного бунта), он призывает не прикипать сердцем к этим экзотическим состояниям. В таком — кричащем, многоголосом, мистически впечатлительном собрании — жена да молчит. Хочет говорить? — Пусть она это делает в спокойной, трезвой обстановке у себя дома.
Не против женщин текст апостола Павла. И не в защиту полового сегрегационизма. Это просто текст в защиту трезвости и рассудительности. Разве не разум велит нам ставить любовь выше экзотических мистических дерзаний: «если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, а не имею любви: то я ничто» (1 Кор. 13, 1–2). «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (8).
Так вот — если бы Олеся Николаева, Ирина Силуянова, Татьяна Горичева и Пиама Гайденко вскрикивали на «иных языках», если бы они цеплялись ко всем встречным с предложением немедленно выслушать переданное им прошлой ночью «откровение», если бы они считали себя наделенными некиим эзотерическим «знанием», если бы они ощущали себя проводницами некиих «пророчеств» — то к ним с самой жесткой интонацией надо было бы обратить слова Апостола: «Жена в церкви да молчит!».
Но ведь все они — философы. Все они пишут логично, строго, сдержанно, призывая контролировать движения сердец и эмоций доводами науки, логики, богословия. Если бы в том коринфском собрании посреди всеобщей опьяненности «иными языками» вдруг встала бы женщина и спокойно сказала: «Братья! не упивайтесь своими «вдохновениями». Самый важный дар духа — это любовь. В сердце нетрезвое, в сердце, опьяненное своими «переживаниями», этот дар не войдет. Поэтому давайте отложим нашу возбужденность и научимся бесстрастно-умной молитве…» — разве осудил бы ее апостол Павел за это выступление?
— А говорят, был церковный собор, который на полном серьезе обсуждал, можно ли считать женщину человеком, есть ли у женщины душа или нет, и большинством только в один голос святые отцы все же приняли решение, что женщина — тоже человек.
— Это масонско-рериховский миф. Миф поразительной устойчивости. Он был уже у Блаватской (то есть в XIX веке). Его повторяла атеистическая литературе в советские времена. Современным оккультистам эта погремушка также дорога. Ни один из антицерковных критиков, упоминавших об этом соборе, никогда не указывал каких бы то ни было конкретных сведений о нем: когда он состоялся, где, кто был его участником… [11] Типичный пример: «Нас заставляют принимать как Откровение и догму решения отцов церкви, серьезно обсуждавших вопрос — сколько духов могут уместиться на конце иглы, или другой такой же перл — имеется ли душа у женщины?» (Письма Елены Рерих 1929–1938. Т. 1, Минск, 1992, с. 162). Кстати, вопрос об ангелах на кончике иглы не так смешон, как кажется церквеборцам. Кончик иглы — это минимум пространства; в пределе это математическая точка. Ангел, согласно средневековому богословию, — существо бестелесное. То есть в пространственном континууме его присутствие можно рассматривать как абсолютный ноль. Следовательно, вопрос о том, сколько ангелов умещается на кончике иглы, в математической точке, есть вопрос о соотношении максимально малой, но все же реальной величины, и нуля. Это начало дифференциального исчисления: может ли величина, бесконечно стремящаяся к нулю, достигнуть своей цели, и в чем различие между нулевым значением и функцией, стремящейся к нулю. Весьма многие научные проблемы, прежде чем они были сформулированы и решены на собственно научном (прежде всего математическом) языке, первоначально формулировались в лоне философии. Вопрос об ангелах и игле — один из таких вопросов. Издеваться над ним — все равно что издеваться над атомизмом Демокрита.
.
Интервал:
Закладка: