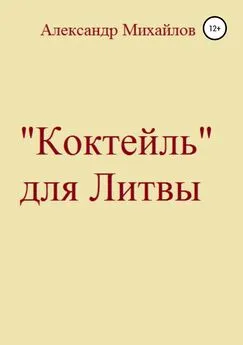Александр Михайлов - Языки культуры
- Название:Языки культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Языки русской культуры
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7859-0014-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Михайлов - Языки культуры краткое содержание
Тематику работ, составляющих пособие, можно определить, во-первых, как «рассуждение о методе» в науках о культуре: о понимании как процессе перевода с языка одной культуры на язык другой; об исследовании ключевых слов; о герменевтическом самоосмыслении науки и, вовторых, как историю мировой культуры: изучение явлений духовной действительности в их временной конкретности и, одновременно, в самом широком контексте; анализ того, как прошлое культуры про¬глядывает в ее настоящем, а настоящее уже содержится в прошлом. Наглядно представить этот целостный подход А. В. Михайлова — главная задача учебного пособия по культурологии «Языки культуры». Пособие адресовано преподавателям культурологии, студентам, всем интересующимся проблемами истории культуры
Александр Викторович Михайлов (24.12.1938 — 18.09.1995) — профессор доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы ИМЛИ РАН, член Президиума Международного Гетевского общества в Веймаре, лауреат премии им. А. Гумбольта. На протяжении трех десятилетий русский читатель знакомился в переводах А. В. Михайлова с трудами Шефтсбери и Гамана, Гредера и Гумбольта, Шиллера и Канта, Гегеля и Шеллинга, Жан-Поля и Баховена, Ницше и Дильтея, Вебера и Гуссерля, Адорно и Хайдеггера, Ауэрбаха и Гадамера.
Специализация А. В. Михайлова — германистика, но круг его интересов охватывает всю историю европейской культуры от античности до XX века. От анализа картины или скульптуры он естественно переходил к рассмотрению литературных и музыкальных произведений. В наибольшей степени внимание А. В. Михайлова сосредоточено на эпохах барокко, романтизма в нашем столетии.
Языки культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже искусствоведческое понятие бидермайера (5), которое сложилось около 1910 г., устроено иначе, чем литературоведческое, возникшее позднее (9), — и это показано у нас на схеме. Вопреки тому, что литературоведение и искусствознание стоят рядом в классификации наук, литературоведческое и искусствоведческое понятия бидермайера — не вполне под пару друг другу. Хотя и то и другое вполне легитимны по своему происхождению и хотя, естественно, литературоведческое и искусствоведческое понятия, раз возникши на свет, не могли и не могут не взаимодействовать, взаимоотражаться (такие вторичные, взаимные связи уже не показаны на схеме), тем не менее их отличает разная степень обобщенности. Но здесь все дело — исключительно в характере материала, в его сложенности и устройстве: живопись эпохи в целом куда «усредненнее» многоликой и разбросанной по стилям, темам, мировоззренческим тенденциям литературы; живопись в этом отношении куда компактнее, а, с большой готовностью выполняя пожелания, заказ довольно массового зрителя, она, кажется, даже убедительнее лирики или прозы того же уровня. Бидермайер как общее настроение (1) и стиль, передающий такое настроение, сильнее и более непосредственно связан в живописи с общим «стилем» жизни (6), с теми обычаями и привычками, которым так отвечают мебель и прикладное искусство, — живопись, рассматриваемая как «вещь», рассматриваемая так в повседневном быту (сколь бы ни противоречило это теоретической эстетике), легко присоединяется к окружающим вещам, предметам и составляет вместе с ними стилистическое единство «жизни». Между тем требовательное искусство К. Д. Фридриха, непослушное и не желающее сообразовываться со стилем вещей, отвергается легко и отвергается последовательно! Таким образом, искусствоведение вправе обращаться с бидермайером как стилем, но только при непременной дифференциации стилистических истоков всего того, что образует известное стилистическое единство: в живописи точно так же приглушается и «одомашнивается» романтизм и удерживается в известных рамках реализм, как это происходило и в литературе. Зато в музыкознании понятие бидермайера почти не привилось [97] — главным образом вследствие того, что общекультурные и литературоведческие «термины движения» весьма своеобразно и своевольно отразились в истории музыки как научной дисциплине, хотя и такое своеобразие возникло на органических путях; во всяком случае, на будущее остается широкий простор, в котором различные науки смогут договариваться между собой, — здесь, надо сказать, еще непочатый край работ…
Одним из крупных ученых, кто ввел понятие бидермайера в искусствознание, был Рихард Гаманн; вводя это новое понятие, он, очевидно, следовал тенденции науки, заставлявшей преодолевать личные сомнения в пригодности термина. Еще в 1906 г. Гаманн писал: «<���…> Это слово — „бидермайер“ — навсегда сохранит юмористическую интонацию» [98] . Теперь же можно сказать, что слово утратило эту интонацию и что она, напротив, усвоена внутрьпонятия как одна из характеристик эпохи, конечно, отнюдь не исчерпывающая ее содержание. Так, как в достаточной степени само собою разумеющимся, термином «бидермайер» и продолжает пользоваться немецкое искусствознание. Книга Вилли Гейсмейера «Бидермайер» (1979) — одна из последних обобщающих работ по этой эпохе (обращенная, без ущерба для своего научного характера, к достаточно широкому читателю). Если есть еще для искусствознания что-то не разумеющееся само собой в понятии бидермайер, если нет полной уверенности в правомерности использования его, то все это, возможно, и отразилось в построении книги, первый раздел которой, самый краткий, посвящен «образу бидермайера», т. е. истории его возникновения в культуре и науке.
Небезынтересно привести оглавление этой книги (для ясности обозначим цифрами и буквами разделы и подразделы): I. Образ бидермайера: а) Бидермайер как литературный псевдоним; б) Бидермайер как бюргерская культурная эпоха; в) Бидермайер в истории культуры, литературы, искусства. — И. Эпоха и культура бидермайера: а) Социальные условия в Германии; б) Бюргерский образ жизни и культура. — III. Искусство и художественная жизнь бидермайера: А. Живопись и рисунок: а) Портрет и интерьер; б) Жанр и картина нравов; в) Пейзаж и архитектура; г) Натюрморт. Б. Прикладное искусство:
а) Интерьер и мебель; б) Стекло и хрусталь.
Совершенно ясно, что второй и третий разделы книги воспроизводят историю становления понятия «бидермайер», но только в обратном порядке, от общего к конкретному, так что логика его разворачивания, как оно исторически происходило, все равно оказывает свое влияние на изложение предмета. Кроме этого, столь же ясно, что порядок глав в принципе мог бы быть прямо обратным — тогда автор шел бы от частностей и от узкого истолкования бидермайера и переходил бы ко все более общему. Однако терминологические трудности времен создания этой книги заставили автора сначала оправдывать сам термин, что побудило автора написать первый раздел, во всех отношениях полезный и богатый информацией.
Быстрое разворачивание понятия «бидермайер» — от стиля мебели (3) к стилю жизни (6) и культурной эпохе (7) — успело совершиться еще до начала первой мировой войны. Малозначительный беллетрист Георг Германн (1873–1943), один из инициаторов тогдашнего «необидермайера» в литературе, впоследствии погибший в Освенциме, издал в 1913 г. небольшую антологию «Бидермайер в зеркале своей эпохи». Эта книжечка в четыреста с небольшим страниц убористой печати, составленная из «писем, дневников, мемуаров, народных сценок и тому подобных документов», вышла в свет столь своевременно и оказала такое большое воздействие на культурное сознание, что до сих пор высоко оценивается в науке. Между тем эта книга составлялась вовсе не в научных целях — хотя удовлетворила именно потребности науки! Удачный монтаж отрывков создавал как раз то, что было нужно, — образ эпохи, — таким способом совершая труд обобщения, столь нелегкий для специальных дисциплин. Г. Германн, рисуя образ эпохи, поступал смело — и вопреки своему знанию; недаром же то были годы «Кавалера Роз» Гуго фон Гофмансталя и Рихарда Штрауса, с его ностальгической и сказочнофантастической картиной эпохи рококо, все реальное растворяющей в прекрасном мифе! Германн писал так: «Как же странно повернулся взгляд наш на эту эпоху! Еще десять лет назад никто не думал о „бидермайере“ — ту эпоху называли „предмартовской“, годами, когда подготавливались перевороты мартовских дней 1848 года. И на деле тот период, который мы любим рассматривать теперь как пору милой и уютной дремоты, самодовольной радости от любых проявлений жизни, высококультурных и отмеченных хорошим вкусом, на деле тот период был исключительно политическим! Политика была такой силой, что никто не мог устраниться от нее. Все было связано с ней, каждый должен был выбирать свою позицию. Все было проникнуто политикой, насквозь проедено ею. Она царила в университетах, в науке, еще больше — в свободном творчестве. Все искусства были связаны с политикой, с политическими вопросами дня. Лирика служила ей, служили театр, эпос, роман. Политика была тлеющим очагом огня, который подавляли и который вспыхивал вновь и вновь. У каждого созданного тогда произведения искусства как бы двойное дно. <���…> И несмотря на это, чисто политическое рассмотрение этого периода почти полностью вытеснено теперь подходом со стороны культуры; еще десять лет назад все было как раз наоборот» [99] .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





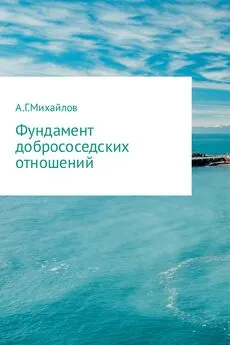
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)