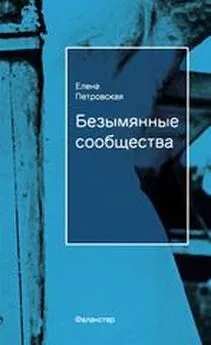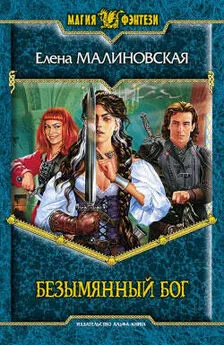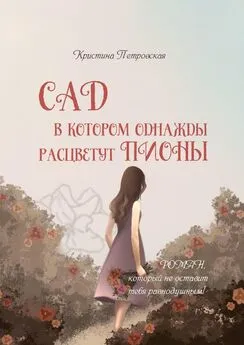Елена Петровская - Безымянные сообщества
- Название:Безымянные сообщества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фаланстер
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9903732-1-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Петровская - Безымянные сообщества краткое содержание
Книга посвящена практически не исследовавшейся в России проблеме сообщества, понимаемого не как институциональное образование, но как условие прочтения самых разных текстов современной культуры. В сферу рассмотрения включаются такие сюжеты, как художественный авангард начала XX века, утопическое в массовой культуре, событие и документ (в том числе Событие с заглавной буквы), образ в противоположность изображению, «множество» и размышления о политических изгоях. Сообщество, понимаемое как форма коллективной аффективности или как «другое» существующего общества, оставляет след в литературных, кинематографических и фотографических произведениях.
Книга публикуется в авторской редакции.
Безымянные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Набросав в общем виде контекст, обратимся к тому, как современные мыслители подходят к проблематике сообщества. Коротко тезис Нанси может быть сформулирован следующим образом: сообщество не рассматривается как противостоящее обществу. Именно потому, что коммунизм не может быть «непревзойденным горизонтом нашего времени», как о нем когда-то выразился Сартр, и предстоит идти «дальше любых возможных горизонтов» [8] Nancy J.-L . La communauté désoeuvrée, pp. 11, 28.
. Это будет означать и измененный вектор поисков сообщества: сообщество — то, что случается с нами начиная (à partir) с общества, но никоим образом не предшествует ему. Что же может случаться? «Вопрос, ожидание, событие, императив» [9] Ibid., p. 34.
. В этом ряду отсутствует, пожалуй, только одно пояснение — опыт. Между тем значение этого термина и стоящего за ним подхода трудно переоценить. Ведь именно «внутренний опыт » становится условием и выражением сообщества в интерпретации Батая [10] См.: Батай Ж . Внутренний опыт. Пер. с фр., послесл. и комм. С. Л. Фокина. СПб.: «Аксиома», «Мифрил», 1997.
. Чтобы избежать двусмысленности слова «внутренний», обратим внимание на две ближайшие подсказки. Во-первых, сам Батай использует его синоним, говоря о «сокровенности» или «сокровенной жизни», которой обозначается архаизированный мир, не знающий индивидуальности и противоположный порядку, ориентированному на долгосрочность потребления [11] См.: Батай Ж . Теория религии. — В кн.: Его же . Теория религии. Литература и Зло. Пер. с фр. Ж. Гайковой, Г. Михалковича. Минск: «Современный литератор», 2000.
. По той же логике «внутренний опыт» нельзя рассматривать как обособленный — напротив, он столь же неиндивидуален, избыточен, а главное — принципиально сообщаем. Во-вторых, высказываясь о данном опыте, Бланшо в другом месте определяет его как «опыт-предел» [12] Бланшо М . Опыт-предел. — В кн.: Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века. Сост., пер., комм. С. Л. Фокина. СПб.: «Мифрил», 1994, с. 66–67.
, то есть, по сути дела, опыт, совпадающий с внешним, отрицающий границы субъективности.
Но и в самой книге «Неописуемое сообщество» использовано слово «опыт». Опыт здесь приравнивается к знанию того, что не может быть познано и что навязывается собственно сообществом: «…это „бытие-вне-себя“ (или вовне), то есть восторг и бездна, не перестающие служить взаимосвязью» [13] Бланшо М . Неописуемое сообщество, с. 28.
. Очевидно, что другим названием для подобных состояний становится экстаз, еще одна постоянная тема Батая. Бланшо приводит в тексте и немецкое «Erfahrung», а это уже прямая аллюзия на Беньямина и его продуктивное различение безличного опыта (сопоставимого со статусом травмы у Фрейда) и сиюминутного переживания (Erlebnis) [14] См.: Беньямин В . О некоторых мотивах у Бодлера (пер. Ю. А. Данилова). — В кн.: Его же . Озарения. Пер. Н. М. Берновской, Ю. А. Данилова, С. А. Ромашко. М.: «Мартис», 2000, разделы IV и III.
. Итак, сообщество, которое случается, можно понимать как опыт, не принадлежащий никому по отдельности и сразу обнаруживающий общность: опыт как «бездонная основа» любой коммуникации [15] Бланшо М . Неописуемое сообщество, с. 29.
, как ускользание за пределы субъективности, как это имеет место в дружбе, смерти другого, любви и жертвоприношении.
И все же, несмотря на то, что мы должны идти дальше любых возможных горизонтов в нашей мысли о сообществе, есть горизонт позади нас, и это «ретроспективное сознание» [16] Nancy J.-L . La communauté désoeuvrée, p. 30.
сопровождается ностальгией по утраченным формам общинной жизни. Среди прочих мыслителей Нанси выделяет Руссо, для которого общество характеризируется переживанием утраты или упадка коммунитарной близости. Пожалуй, Руссо был первым, кто думал об обществе не как об институте, но как о «беспокойстве, направленном к сообществу» [17] Ibid., p. 29.
, как о сознании непоправимого разрыва, постигшего последнее. Примеров утраченного сообщества можно привести немало. Но какие бы модели ни приходили на ум — естественная семья, афинский город, Римская республика, корпорации, коммуны и проч., — всякий раз имеется в виду органическое единение сообщества с собственной сущностью: каждый из членов сообщества определяет самого себя только через дополнительную идентификацию с «живым телом сообщества» [18] Ibid., p. 30.
. Однако по-настоящему сознание утраты сообщества связано лишь с христианством, ведь оплакиваемая или чаемая общность, несмотря на разные ее обличья у Руссо, Шлегеля, Гегеля, Бакунина, Маркса, Вагнера и Малларме, воспринимается как общность религиозная в самой своей основе (достаточно вспомнить о приобщении — причащении — к телу Христову). Но вполне может быть так, что сообщество, этот древнейший миф Запада, есть изобретение Нового времени, а именно реакция на смерть Бога или, в более позднем варианте, на «нетость священных имен» [19] Название работы М. Хайдеггера в переводе А. В. Михайлова; в немецком стоит слово «Fehl».
. Словом, надо понимать, что « сообщество не имело места » [20] Nancy J.-L . La communauté désoeuvrée, p. 33.
, во всяком случае в виде тех проекций социальных связей, которые мы не перестаем использовать, когда рассуждаем о нем. « Общество не было построено на руинах сообщества » [21] Ibid., p. 34.
. Подведем некий предварительный итог. Если сообщества не было и если это то, что случается начиная с общества, то связь сообщества и общества не является ни генетической, ни исторической. Мы имеем дело с идеей, отрицающей собственный исток. В этом смысле и утрата (имманентности и близости единства) значима лишь потому, что конституирует само «сообщество»; только имманентность для Нанси — это верный знак его уничтожения [22] Ibid., p. 35.
. Можно утверждать, что сообщество есть письмо общества, другими словами — его «différance».
Что же является столь радикальным в данной мысли о сообществе? Очевидно, что интересующий нас тип мышления предполагает отказ от категорий индивида и субъекта в качестве опорных точек философского и социологического подходов к проблеме. Мысль о сообществе — это мысль на пределе, как сказал бы Нанси. Такое неметафизическое мышление требует решительного пересмотра аппарата старых понятий, но и само оно недооформлено в систему, поскольку отвергает любое замыкание, теоретическое или идеологическое. Разговор о сообществе и в самом деле крайне труден: если это «избыток в отношении теоретического» [23] Ibid., p. 66.
, то для сообщества должен быть изобретен новый способ, каким о нем можно будет говорить, новая практика высказывания. Речь, впрочем, идет не столько о неологизмах, сколько — вновь — об опыте, о включении в ткань размышлений других, размышляющих порой противоречиво и даже «неудачно» на ту же самую тему («…написанное мною ранее… является… попыткой вступить в контакт с его [Батая] опытом , а не просто что-то почерпнуть из его знаний или положений» [24] Ibid., p. 65.
(курсив мой. — Е.П. )). Именно поэтому системосозиданию уместно противопоставить дружбу — «сообщество, созданное посредством письма» [25] Бланшо М . Неописуемое сообщество, с. 37.
и в силу этого объединяющее лишенных друзей незнакомцев [26] Ср. с высказыванием Гертруды Стайн «I write for myself and strangers» (роман «Становление американцев»).
. (С этим коррелирует «литературный коммунизм» Нанси как пространство разомкнутой коммуникации, или перетекающих друг в друга «текстов».) Иными словами, дружба — не просто один из примеров сообщества, приводимых Бланшо, Нанси и Батаем, но тот способ, каким осуществляется мышление о нем, мышление в пределе анонимное.
Интервал:
Закладка: