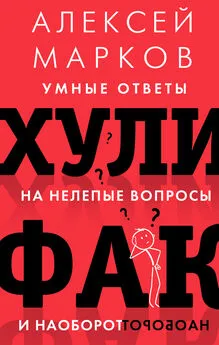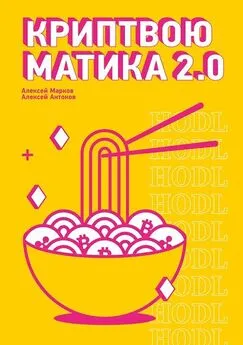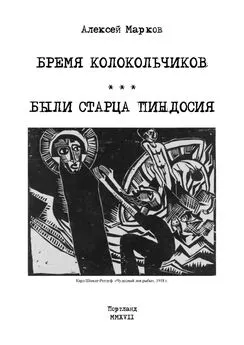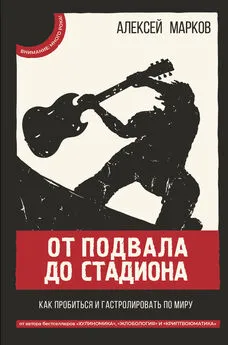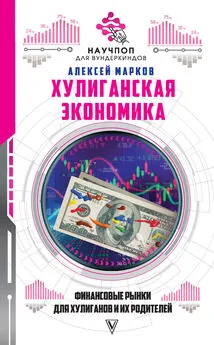Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
- Название:Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-369-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов краткое содержание
Эта книга — выходящий посмертно сборник работ петербургского историка и социолога Алексея Маркова (1967–2002). Основная часть книги — впервые публикуемая монография о петроградских студентах 1910-х — первой половины 1920-х годов как об особой общественной группе со своим набором ценностных установок, идеологических и коммуникативных практик. В приложении помещены статьи, посвященные эволюции образования, «политикам тела» и истории сексуальности в России конца XIX — первой трети XX века, а также проблемам современной отечественной гуманитарной науки.
Во всех работах А. Маркову были свойственны нетривиальный исследовательский подход и методологически заостренное видение. Поэтому его книга может быть интересной и нужной не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся интеллектуальной историей России.
Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Цитировавшийся выше фрагмент об «объединении» заставляет вспомнить о развернувшейся в конце зимы — начале весны 1919 года борьбе между Наркомпросом и студенчеством за право контроля за распределением социальной помощи [389] Жаба С. Указ. соч С. 15–21.
. Наркомат решил сформировать «тройки», в которых только один голос принадлежал бы Советам старост, да и то после утверждения местным органом комиссариата. Факт наличия «объедающих» антисоветских офицеров оказался отчасти направленным против старостатов и Центрального Общестуденческого комитета, давая лишние козыри проекту наркомата. Последнее позволяет предположить принадлежность студента Леонтьева к малочисленной большевистской парторганизации студенчества города. Однако, что меняла бы эта вероятность в наших выводах? Почти ничего, ибо логика письма явно диктовалась студенческими настроениями момента, да и учитывала возможность мобилизации всех студентов младших курсов.
Осенний призыв 1919 года большей части петроградского студенчества (в связи с наступлением Юденича), исключая медиков и инженеров старших курсов, получил примечательное освещение у того же Жабы. Последний интерпретировал происшедшее, используя клише студента начала века — будь то сам факт призыва, будь то армейский институт: «Мобилизация эта явно имела полицейско-карательные цели. <���…> Мобилизованные студенты были отправлены во Владимир, где провели несколько ужасных месяцев. Их держали впроголодь; не давали, в виде особого, должно быть, издевательства, воды для умывания; подвергали самому грубому обращению. Чтобы не умереть с голоду, они принуждены были распродать все, что имели, оставшись буквально в одних шинелях» [390] Там же. С. 25.
. Этос «вечного студента» не менялся: мобилизация — наказание, армия — деградация и разрушение студенческой личности. Эта риторика подчинена, таким образом, давно сложившемуся дискурсу, который «говорил» и в анонимном послании «дорогому вождю» от имени «студента-пролетария».
Разбор конфликтов в студенческой среде в связи с призывом в Красную Армию позволяет, таким образом, отметить стабильность, при всех трансформациях, в студенческих групповых верованиях: традиционные представления об армии (власти), их «смещение» у части обитателей кампусов на соучеников — бывших офицеров, принятие ритуального языка при общении с властью и, возможно, друг с другом, формирование субгруппы демобилизованных студентов. Символ веры российского студента не изменился.
Сексуальность и власть:
сексуальные дискурсы 1920-х — начала 1930-х годов (от конкуренции к иерархии)
Без понимания развития сексуальности в
Советском Союзе нельзя понять и культурной
эволюции этой страны.
В. Райх. Сексуальная революцияМы устраним элемент пола из человеческих
отношений и освободим дорогу чистой
душевной дружбе.
А. Платонов. АнтисексусЛюбви у нас нет, у нас есть только половые
отношения.
П. Романов. Без черемухиИзвестная историкам нэповского периода атмосфера социального «хаоса» выразилась во множественности и известной равноправности различных жизненных дискурсов и практик, что проявилось как в текстах — художественных, политико-пропагандистских, научных, так и в реальных жизненных ситуациях. По мере стабилизации система сосуществования и (или) конкуренции сменялась иерархией, а затем (в силу «жесткости» системы) и конфискацией маргиналов из сферы письменного дискурса и вытеснением их в исключительно «устные» дискурсы и подпольные практики. Это ясно прослеживается в науке (в силу специфичности последней). Я попытаюсь показать, как тот же процесс проявился в «базовой» для человека области — области обращения сексуальных практик, ибо новый социум творит нужное ему человеческое тело (и наоборот).
По мнению американского историка Г. Варшавски-Лапидус, среди большевистской элиты 1920-х годов были распространены два подхода к половой проблеме — либертарианский (в лице А. М. Коллонтай прежде всего) и инструментальный (здесь трудно назвать какого-то лидера — в данном ключе писали столь разные люди, такие как Е. А. Преображенский и А. Б. Залкинд) [391] Warshofsky Lapidus G. Women in Soviet society. Equality, Development and Social Control. Berkeley, California, 1978. P. 54–94.
. На мой взгляд, палитра не исчерпывалась только двумя цветами, поскольку встречался и онтологический подход в духе В. Райха (см. далее о книге Л. Сэвли «Кто виноват?»), и уж тем более «традиционный». Такая многовариантность ощущалась и самими современниками: Преображенский, например, писал об отсутствии четкой партийной позиции в вопросе о путях развития полового быта и о «навязывании» пишущими на эту тему большевиками наиболее приемлемого для того или иного автора образа жизни: либо на манер Маркса (уклад семейной жизни которого Преображенский считал «несколько филистерским»), либо беспорядочного полового общения (промискуитета) [392] Преображенский Е. А. О морали и классовых нормах. М.; Л.: Госиздат, 1923. С. 97–98.
. Достаточно простой, на первый взгляд, вопрос о соотношении перечисленных дискурсов и практик, — за очевидностью несомненного (по крайней мере, до середины 1920-х) преобладания в текстах инструменталистской версии, — осложняется данными социологических опросов и выдвижением «традиционных» ценностей на ведущие позиции к середине 1930-х годов. Для разрешения проблемы обратимся к рассмотрению четырех дискурсов о сексуальности как данностей и в их взаимодействии и взаимовлиянии, учитывая существовавший исторический контекст.
1. Либертианство: дискурс и практика
Либертианский дискурс не был порождением Октября (как, впрочем, и остальные дискурсы-практики): он ведет свою родословную от взглядов нигилистов и Чернышевского и тесно связан с феминистской теорией и практикой в России и Европе до Первой мировой войны. В центре его — проблема «любви», рассматриваемой как нечто самоценное. Эта интерпретация проистекала из представлений об обществе будущего как о царстве солидарности, сводившейся А. М. Коллонтай к «сознанию общности интересов» и «духовно-душевной связи» между членами трудового коллектива. Соответственно Александра Михайловна часто прибегала к поэтическому языку («крылатый» и «бескрылый эрос», «многострунность чувств», «любовь-товарищество», «великая мятежница» и т. п.), а иногда и прямо обращалась к лирической поэзии А. А. Ахматовой. Ее программные представления воплощены в формах беллетристики или «интимной переписки» с молодой комсомолкой. «Эмоциональное» — как бы несущая конструкция в либертарианской системе взглядов и ценностей. Сексуальная практика здесь неотъемлемо сопрягается с «душевной эволюцией связующего и, следовательно, организующего характера» и без любви вырождается в «нездоровую похоть». Пространственно-временной континуум любви имеет весьма относительные характеристики: в данной системе координат возможны полигамные и моногамные формы «брака» неопределенной продолжительности — точнее сказать, равной продолжительности любви. Половая связь у Коллонтай мыслится и формулируется в контексте обостренного внимания к дихотомии «доминирование — равенство»: выделяются три императива любви-товарищества — 1) равенство мужчины и женщины (как реальный факт), 2) взаимное признание равных прав друг друга, 3) так называемая «товарищеская чуткость» [393] Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 123. См. также три других ее «письма» по вопросам новой морали: Каким должен быть коммунист? // Там же. 1922. № 1–2; Мораль как орудие классового господства и классовой борьбы // Там же. 1922. № 6–7. С. 128–136; О «Драконе» и «Белой птице» // Там же. 1923. № 2. С. 163–174.
. Последнее понятие раскрыто в коллонтаевской статье «О „Драконе“ и „Белой птице“» и в ее повестях, героини которых страдают от невнимания их возлюбленных к ним как самостоятельным общественным субъектам — в том числе как интеллектуалкам («Большая любовь», «Василиса Малыгина») [394] Коллонтай А. М. Любовь пчел трудовых М.; Пг.: Госиздат, 1923; Она же (под девичьей фамилией Домонтович А.). Женщина на переломе. М.; Пг.: Госиздат, 1923.
. В этом же ключе можно рассматривать и акцент на женском восприятии проблемы пола: «Нельзя оценивать и разбирать явления, опираясь лишь на мужское восприятие. Особенно когда дело идет о проблемах пола, о старой, как само общество, „загадке любви“» [395] Коллонтай А. М. О «Драконе»… С. 163.
. Само собой разумеющимся представляется и стремление Коллонтай минимизировать социальные издержки материнства, что проявилось как в деятельности Александры Михайловны на посту наркома государственного призрения и заведующей Женотделом ЦК РКП(б), так и в ее литературном творчестве. Разделяемое всеми большевистскими идеологами требование общественного воспитания детей как нельзя лучше отвечало этой ориентации. Принципиальным было для Коллонтай положение о важном социальном значении любви (см. выше о солидарности), что подразумевало право на вмешательство трудового коллектива в частную жизнь своих членов: «…идеология рабочего класса гораздо строже и беспощаднее будет преследовать „бескрылый Эрос“ (похоть, одностороннее удовлетворение плоти при помощи проституции, превращение „полового акта“ в самодовлеющую цель из разряда „легких удовольствий“), чем это делала буржуазная мораль» [396] Коллонтай A. M. Дорогу крылатому Эросу! С. 122.
. Причем любопытно, что надзирателями и судьями предполагались все те же товарищи по трудовому коллективу, а не государственные инстанции и партийные органы: такая схема позволяет нам вспомнить о платформе «рабочей оппозиции», одним из лидеров которой была Коллонтай («Для рабочей оппозиции социализм должен был быть прямым достижением рабочего класса, если он вообще мог быть реализован», — пишет Р. Дэниэлс). Иначе говоря, конструируется самоуправляющееся гражданское общество с «прозрачными» отношениями (М. Фуко писал в связи с этим о «паноптикуме» И. Бентама). Подобно концепции двустадиального общества будущего, Коллонтай писала об эволюции от «любви-товарищества» к «любви-солидарности», которая окончательно сняла бы проблему отчуждения влюбленных от коллектива (т. к. новая «форма полового общения» будет базироваться «на здоровом, свободном, естественном (без извращений и излишеств) влечении» или на «преображенном Эросе») [397] Там же. С. 123; Дэниэлс Р. Социалистические альтернативы в споре о профсоюзах // Россия в двадцатом веке. Историки мира спорят. М.: Наука, 1994. С. 360.
. Что касается собственно «физиологической» стороны вопроса, либертарианцы разделили «гидравлическую» гипотезу о круговороте энергии в организме и потому указывали на вред «излишеств», ведущих к снижению «запаса трудовой энергии в человечестве» [398] Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! С. 122.
.
Интервал:
Закладка:
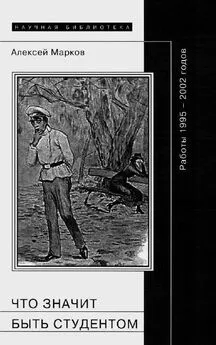
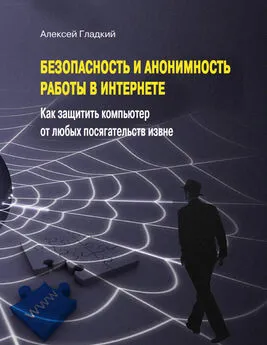


![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)