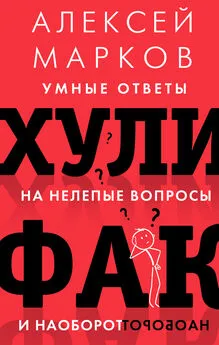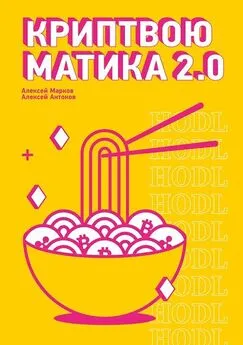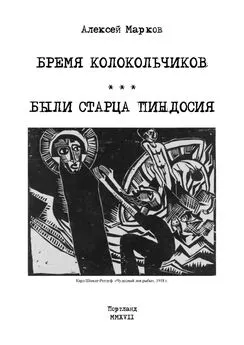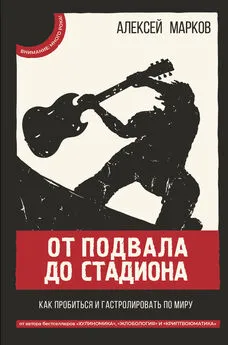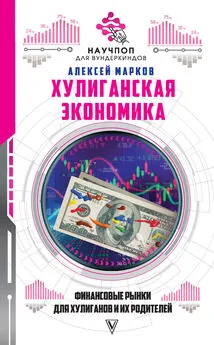Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
- Название:Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-369-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Марков - Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов краткое содержание
Эта книга — выходящий посмертно сборник работ петербургского историка и социолога Алексея Маркова (1967–2002). Основная часть книги — впервые публикуемая монография о петроградских студентах 1910-х — первой половины 1920-х годов как об особой общественной группе со своим набором ценностных установок, идеологических и коммуникативных практик. В приложении помещены статьи, посвященные эволюции образования, «политикам тела» и истории сексуальности в России конца XIX — первой трети XX века, а также проблемам современной отечественной гуманитарной науки.
Во всех работах А. Маркову были свойственны нетривиальный исследовательский подход и методологически заостренное видение. Поэтому его книга может быть интересной и нужной не только специалистам, но и всем читателям, интересующимся интеллектуальной историей России.
Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако для большинства инструменталистов «общественники» были так же неприемлемо радикальны, как и «рационалисты». Характерно, что редко высказывавшийся по половому вопросу Н. И. Бухарин специально осудил построения Залкинда на литературном совещании при ЦК РКП(б) в феврале 1925 года: «Я утверждаю, что это чушь, это — мещанская накипь, которая желает залезть во все карманы» [440] Бухарин Н. И. Пролетариат и вопросы художественной политики // В тисках идеологии. М.: Книжная палата, 1992. С. 360.
. Но представления о способах регулирования сексуальных практик у «умеренных» и «общественников» весьма схожи: ставка делается на социальное самоуправление. Другое дело, что социальное поле Залкинда чрезвычайно идеологизировано.
Имел ли инструменталистский дискурс «практическое воплощение», от каких явлений окружающей реальности он отправлялся и была ли в этой основе «сексуальная составляющая»? На наш взгляд, такой средой был нэповский город. Известно, что Первая мировая и Гражданская войны подорвали традиционные городские сексуальные практики, принеся в «гражданское» общество армейскую промискуитетную практику [441] Fitzpatrick Sh. Sex and Revolution: An examination of literary and statistical data of the mores of Soviet students in the 1920s // The Journal of Modern History. Vol. 50. № 2. June 1978. P. 255.
. Еще в начале 1920-х годов эта последняя охватывала значительный сегмент «нового студенчества»: так, среди студентов Коммунистического университета имени Свердлова в 1922 году сторонники кратковременных и «свободных» («без срока») половых отношений составляли 22,4 процента мужчин и 16,8 — женщин [442] Гельман И. Половая жизнь современной молодежи. С. 95.
. В обстановке социально-экономических трудностей нэпа усилилась нестабильность рабочей семьи, и до революции, по Р. Стайтсу, устойчивостью не отличавшейся: поданным Голосовкера, более 50 процентов женатых рабочих печатников Казани — 105 из 207 опрошенных — имели по несколько внебрачных половых связей каждый (1923 г.) [443] Stites R. Equality, Freedom and Justice: Women and Men in the Russian Revolution. 1917–1930, Jerusalem: The Marjorie Mayrock Center. Research Paper. 1988. № 67. P. 9–12; Голосовкер С. Я. О половом быте мужчины. Казань: Казанский медицинский журнал, 1927. С. 21.
. Широко распространились аборты, ставшие в городах подлинным социальным бедствием [444] Fitzpatrick Sh. Op. cit. P. 260–263.
. Глубокой дискредитации подвергся образ традиционного моногамного брака, особенно среди рабфаковцев и «новых студентов»: даже в середине 1920-х годов только 51,8 процента одесских студентов-мужчин и 60,9 — женщин считали любовь реальностью, а в «свободном браке» (т. е. не зарегистрированном официально) жили 16,5 и 31,7 процента соответственно [445] Ласс Д. И. Указ. соч. С. 140–198.
. «Помолодел» и возраст вступавших в половую жизнь юношей — учащихся средних учебных заведений, даже в такой «глухой» провинции, как Усть-Сысольск (в основном коми по национальности): в 40,6 процента случаев (против 21,1 — до революции) они начинали заниматься сексом в 14–16 лет, а в 16,7 процента — до 14 лет [446] Коканин И. С. Половая жизнь (зырянской) молодежи. (Опыт социально-биологического обследования). Усть-Сысольск: Комиоблздравотдел 1930. C. 16.
. Эти процессы давали основание говорить о разрушении традиционной семьи и необходимости рационализации сексуальности [447] См., например: Троцкий Л. Д. Вопросы быта. С. 49–58; Цеткин К. Указ. соч. С. 45–46 и др.
. Возможно также, что инструменталистский дискурс в какой-то мере отражал сексуальную практику части интеллигенции. Аборты и детская беспризорность побуждали авторов постоянно учитывать государственную целесообразность при моделировании своих утопий. Противоречивость и даже антагонизм отдельных течений инструментализма можно соотнести с хаотичностью и большой «подвижностью» сексуальных практик и установок.
3. «Онтологический» дискурс
Как ни странно, при массовом увлечении фрейдовским психоанализом в 1920-е годы [448] О психоанализе в СССР см.: Эткинд А. М. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. С. 213–310.
интерпретация сексуальности, которую мы относим к «онтологическому» дискурсу, встречается весьма редко. Советские фрейдомарксисты критиковали именно так называемый «пансексуализм» Фрейда и больше интересовались проблемой сублимации и «индивидуальной психологией» А. Адлера. Теоретик «сексуальной революции» В. Райх посетил, однако, СССР в 1929 году, тогда же опубликовав свою статью в журнале «Под знаменем марксизма» — правда, никак не затрагивая основного круга собственных идей [449] Райх В. Диалектический материализм и психоанализ // Под знаменем марксизма. 1929. № 7–8. С. 180–206. О пребывании Райха в СССР см.: Эткинд А. М. Указ. соч. С. 2.91–293.
. Мы ничего не знаем ни о резонансе, вызванном этой публикацией, ни о хотя бы минимальном знакомстве советских интеллектуалов с концепцией Райха.
Тем не менее в 1928 году в Ленинграде на деньги автора печатается сколь характерная, столь же и путаная книга некоего Л. Сэвли «Кто виноват?», анонсированная как фрагмент его работы «Мудрость жизни». Для Сэвли половая проблема — определяющая в жизни человека и общества, и потому для ее решения необходима «сексуальная революция» с этапом «диктатуры законов природы» («диктатура биологического естества человека») [450] Сэвли Л. Кто виноват? Л.: Изд-во автора, 1928. С. 109.
. Рассуждения автора представляют собой смесь идей А. Б. Залкинда о социальной природе многих биологических процессов (см. выше) — Сэвли, например, считает менструацию порождением «буржуазного» частнособственнического общества, исковеркавшего такие естественно-природные явления, как «весенняя течка» у животных [451] Там же. С. 39, 106.
, — взглядов немецко-австрийского философа рубежа XIX–XX веков О. Вейнингера на человека как комбинацию мужского и женского начал, представлений инструменталистов о любви как «периоде подготовки к размножению». Последнее, наряду с критикой моногамной семьи («рабского» института), привело Сэвли к выводу о том, что в обществе будущего половая любовь будет длиться около полутора-двух лет, заканчиваясь «в период кормления матерью новорожденного ребенка или непосредственно за ним», а материнская любовь — порождение частнособственнической культуры — «отомрет» совсем (дети будут, конечно же, обобществлены) [452] Там же. С. 92–93, 159–160.
. Сэвли идеализировал так называемый «первобытный коммунизм» и в качестве образца указывал на половую жизнь животных. По сути, это была одна из версий рационалистической утопии, сопоставимая с идиллическими картинами жизни дикарей у мыслителей Просвещения. Не согласных с его идеями автор записывал в «сексуальные меньшевики»: ведь подобно всякой революции, «сексуальная революция» имеет весьма конкретных врагов, «замаскированных биологически» [453] Сэвли Л. Кто виноват? Л.: Изд-во автора, 1928. С. 109, 115.
. Временно, до «созревания» необходимых условий, Сэвли дает «добро» на длительный брак с аскетической и тщательно регламентированной половой жизнью (воздержание до одного-двух лет, а еще лучше — до пяти) [454] Там же. С. 119–137.
.
Интервал:
Закладка:
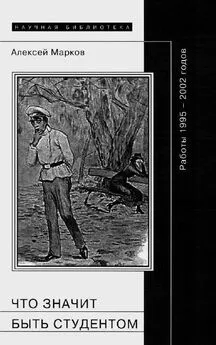
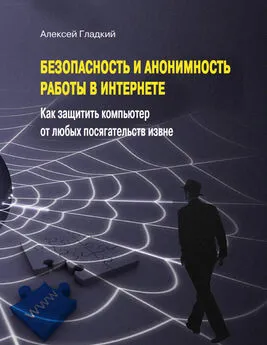


![Алексей Марков - Хулиномика 4.0 [хулиганская экономика. Ещё толще. Ещё длиннее]](/books/1061355/aleksej-markov-hulinomika-4-0-huliganskaya-ekonomi.webp)