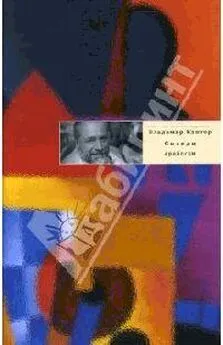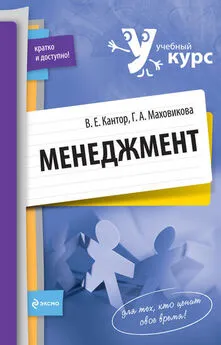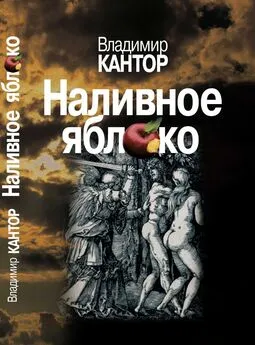Владимир Кантор - «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов
- Название:«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-1616-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кантор - «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов краткое содержание
В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.
Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.
Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.
«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вторичное смесительное упрощение, как мы видим столетие спустя, это наступление массового общества, в котором мы живем и которому по мере сил то противостоим, то приспосабливаемся.
В прошлом России он видит идею великой византийской империи и рожденную в ее недрах православную идею, которые и структурировали косную материю. Без Византии, помимо Византии, точнее сказать, без идеи византинизма, Россия не состоялась бы, без нее она рассыплется. Ибо, по Леонтьеву, сама Россия не родила ни одной культуро — созидательной идеи: «Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды?
Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости или молодости.
Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды [192].
Надо сказать, именно Европу он видел образцом, в сущности соглашаясь с идеей единой Европы, которая близка была и Соловьеву: «Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного.
Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские Государства сольются действительно в какую‑нибудь федеративную, грубо рабочую Республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности?»
И он отвечает на это с верой в европейское будущее: «И, наконец, как бы то ни было, на розовой ли воде ученых съездов или на крови выросла бы эта новая республика, во всяком случае Франция, Германия, Италия, Испания и т. д. падут: они станут областями нового государства, как для Италии стали областями прежний Пиемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для все — Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и самая Пруссия; они станут для все- Европы тем, что для Франции стали давно Бургундия, Бретань!..» [193]
Так оно и происходит на наших глазах.
Не меньше, чем за Россию, он боялся за Европу. Он боялся мещанства, которое помешает суровой и великой реальности Европы и России. Его поэтому пугало надвигавшееся на Россию, которая может Европу спасти, европейское мещанское начало. Поразительным образом он боялся, что радикализм русской интеллигенции приведет ее к мещанству. Ну, допустим, интеллигенция подвержена разным опасностям, ну а народ, зато народ! А что такое народ для Леонтьева?
3. Народ и проблема национального
Народ он принимал, как и Достоевский, не за то, что это русский народ, а как носителя идеи (так ему казалось) православия и византизма. Он писал: «В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще личные, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству… Конечно, не с этой стороны советуют нам перед ним “смиряться”. Надо учиться у него “смиряться” умственно, философски смиряться, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем…» [194]
Для него православие выше национальности. И к русским в этом смысле он относился более чем скептически: «Православные греки, православные турки, православные черкесы, православные немцы, даже искренне православные евреи — все будет лучше этой скверной славянской отрицательной крови, умеренной и средней во всем, кроме пьянства и малодушия! — писал он в 1890 г. И. Фуделю. — Люблю Россию как государство, как сугубое православие, как природу даже и как красную рубашку. Но за последние годы как племя решительно начинаю своих ненавидеть» [195]. У Леонтьева очевидное мировоззрение державника. Он и не скрывал этого: «Для существования славян необходима мощь России.
Для силы России необходим византизм.
Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы русского государства [196].
Византизм — это единство сильной церкви и сильного государства. Если народ державник, это надо приветствовать, тогда и смиряться. Если же этого нет, то опора может быть только на высшие сословия.
В какой‑то момент в своей пророческой статье он вообще отрицает единение царя и народа: «Для того же, чтобы эта Царская власть была долго сильна, не только не нужно, чтобы она опиралась прямо и непосредственно на простонародные толпы, своекорыстные, страстные, глупые, подвижные, легко развратимые; но — напротив того — необходимо, чтобы между этими толпами и Престолом Царским возвышались прочные сословные ступени, необходимы боковые опоры для здания долговечного Монархизма» [197].
Достоевский не раз говорил о единстве царя и народа, что царь должен бы пригласить для совета «серые зипуны». Но это в публицистике, а в гениальных художественных прозрениях говорил нечто иное. Именно в оценке дворянства, как высшего цвета русской культуры, парадоксальным образом сошлись Достоевский и Леонтьев, два православных мыслителя, во многом другом явные антагонисты. По поводу «Подростка» Леонтьев пишет: «И вот этот‑то “народник” православного стиля, этот всеми инстинктами своими столь русский человек, в заключение романа, исполненного дворянских слабостей и глупостей, дворянского беспутства и дворянской непрактичности, дворянской “психопатии”, наконец, — говорит, что дворянство нужно и что только у одних дворян в России есть чувство чести.
Вот что мне дорого!» [198]
И Леонтьев резюмирует: «Нужен для России особый высший класс — людей. А кто говорит особый класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные юридические ограды. <���…> Нужны привилегии , необходимы и особые права на власть. Достоевский был славянофил, но он был человек жизни , а не теории» [199]. Если же учесть, что практически все русское дворянство имело своими предками выходцев из иных земель, то понятно, как Леонтьев мог относиться к идее чистой нации.
Леонтьева очень часто одни обвиняют, другие восхваляют за проповедь национализма. Не будем искать апологетов, это далеко нас заведет, но вот и спокойный Милюков писал о Леонтьеве: «Национальность, — отдельная национальность, сама по себе взятая и служащая сама себе целью, — составляет исключительный предмет его теоретических рассуждений» [200].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: